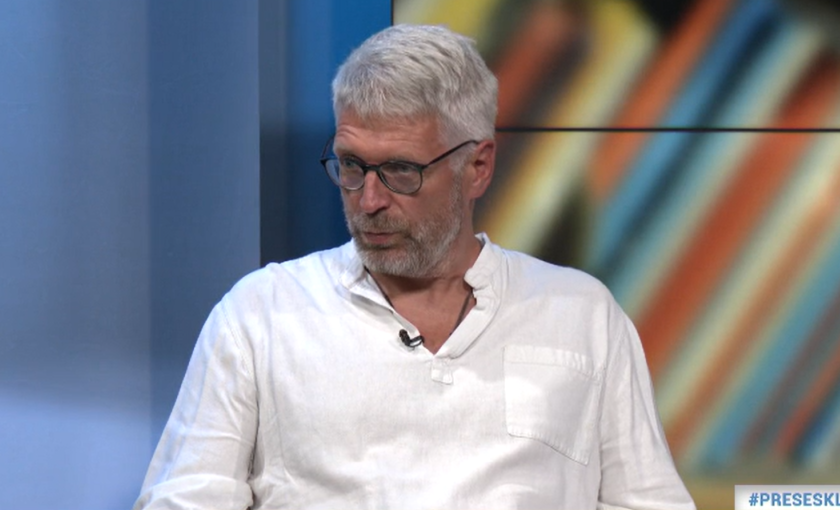Возможно, она не всегда была справедлива к людям, но мне, даже в пору, когда она руководила Союзом художников Латвии или занимала какие–то другие общественные посты, не приходилось ее видеть, что называется, мелким человеком. Вот и с "7 секретами" она поговорила об ответственности и способности на поступок. По секрету скажу, что в сентябре ей исполняется 90 лет.
— Давайте поговорим о том, что для вас важно. Что достойно вашего внимания?
— Если бы у вас была бабушка, то вы бы смогли меня в этом смысле сравнить…
— Я уже давно как сирота.
— Я тоже. Но все–таки я сейчас все время представляю себя в роли бабушки. Мои родители умерли, но успокоением для меня является мой усиленный интерес ко всему. Немножечко чрезмерный интерес. Почему бы мне не оставить все это? К тому же я ведь должна что–то еще думать и о живописи. А вот этот интерес — он от нашей привычки советской поры тыкаться во все щели. Ведь не хватало специалистов, кто бы это делал. Вот и приходилось нам самим засовывать в свои головы то экономику, то природу, то Даугаву, то дизайн продукции промышленных предприятий… Иногда мне кажется, что этот вот повышенный интерес ко всему меня испортил. Но в какой–то мере он продолжает иметь место и поныне.
— Ну, конечно, типичная роль бабушки. Забота обо всем и всех.
— Родители меня летом, сразу после школы, отсылали в деревню. И тогда, когда я была еще совсем маленькой, отвозили к бабушке. А там надо было помогать. Дело делать. Трудиться. Я не была какой–то там рижской баловницей. Я делала все, что в деревне положено делать. Пасла коров, полола, сено собирала, вязала снопы… Так что у меня было натренированное деревней чутье хозяина.
— Зато сейчас вы можете сказать: "Я поступаю как хочу. Да, я счастлива от этого".
— Видите ли, художнику всегда необходим какой–либо импульс… Порой это могут быть всего лишь брошенные на стол фотографии или журналы. А рядом — цветное пятно. И ты уже видишь почти готовую работу. Ты должен ее только осуществить. А если говорить обо мне, то конец шестидесятых — это то время, в котором я как личность оставила свой знак, свой след. Картины написаны весьма вольным почерком, ум и чувства очень раскрепощены. Вот там это "как я хочу" в известной мере удалось. В ту пору созданы мои самые экспрессивные картины. В них осуществилось мое естественное, внутреннее чувствование. Для меня то время — самое близкое.
Кроме того, это было время, которое наметило, что может случиться в мире потом. Чехословацкие события. И там была любовь, там была очень обширная гамма чувств… Вплоть до ненависти. В живописи ненависть проявляется в мазке. В совмещении противоречащих красок. Я брала то, что в искусстве нельзя соединять. Скажем, темперу нельзя смешивать с маслом. Они отталкиваются, они не соединяются, они остаются каждая по себе, и их брызги застывают — каждая в своем положении. А меня это удовлетворяло, именно этого я и хотела. Чувственно хотела.
— Значит, одного искусства недостаточно? Для творения нужны внешние импульсы?
— Я утверждала даже то, что искусство творит искусство. Но всякое утверждение должно подвергаться переоценке. И я утверждала также, что жизнь хитра, что жизнь хочет вмешаться и вмешивается. Но я всегда выступала против мелких гримас, против незначительных жестов. Мой постулат — вечное и незыблемое. Это я не променяю ни на что. Этому меня учил отец, это я обрела от матери. И этому учили также старые мастера.
— При такой общественной, мирской нагрузке, какая у вас когда–то была, желание поместить жизнь в одну комнату, а искусство — в другую, кажется вполне естественным. Удавалось ли?
— Скажу, как это у меня… Я все–таки подчинила жизнь живописи. Вместе с Ояром (Оярс Аболс — живописец, теоретик искусства, муж художницы. — В. А.) это было легко. Оярс был незаурядным помощником. Особенно помощником для женщины. Оярс всегда очень чувствительно справлялся со всем. Даже с тем, что будто бы должна была делать я. Угощение, гости… Оярс был слишком большим индивидуалистом. Дочка Марта как–то даже сказала: "Я порой как будто стесняюсь папочки". Потому что он был… задирой. Но, будучи вместе со мной, он видел мои коммуникационные возможности, и в конце концов понимание толерантности вышколило и его. Но не тогда, когда предстояло выбирать в пользу ценностей, когда оспаривались требования к чему–то более мелкому, менее значительному. Так что сыгранность наших характеров, наших мышлений была мне очень необходима. И, когда я осталась одна, я очень часто подчиняла себя вот этому — а как бы думал он, как бы он сказал… Когда я опиралась на его мужскую силу и целеустремленнос
— Вы утверждаете: "Детство было моей сутью". Что это значит?
— Это я констатировала только сейчас, просматривая свои работы. Несмотря на то, что сейчас я уже нахожусь на другом холме, на другой возвышенности. Я уже нахожусь между прожитым временем и… грядущим. И у меня раскрываются глаза. Я оказываюсь ближе к тому, чтобы увидеть. И вдруг я вижу, что мои рисунки, моя живопись сейчас такие же, как и мои детские работы. Добавилось лишь профессиональное умение. Ничего больше. Значит, я просто–напросто вижу больше истины, я хочу находиться здесь — ближе к сути. К тому, что художник ищет всю жизнь. Он хочет найти то, что до него никто не находил. Какую–то тайну… Не правда ли? Он ищет это неосознанно. Это внутреннее стремление. И вдруг это открывается.
— Чего вы хотели от мира, когда были маленькой девочкой?
— Мне казалось, что я творю. Если я, совсем еще маленькая девочка, нарисовала ребенка, то мне казалось, что он существует, что он живет. В то время мне кукла была не нужна. Да и не было у меня этих кукол. Кроме того, в трехлетнем возрасте меня уже брали с собой в Оперу. Мы жили на углу улиц Аспазияс и Аудею, напротив Оперы. Отец когда–то работал в Опере, были контрамарки. Потом меня водили в театр Дайлес. Театр определял в моей жизни очень многое. Характерное ему видение жизни. Но увиденные в театре образы для меня также были живыми.
— Что есть ваш мир?
— В то время — папа и мама, бабушка. Сказать — природа? Да, в деревне — природа! Лужа, камушки, капли воды… То, как камушки выстраиваются в луже по ранжиру… Можно сказать — письмена природы, их закономерности были первыми. Закономерности, которые не дают мне покоя до сих пор… Прошлым летом у меня все болело, было очень жарко, и я думала: почему же у меня такое тяжелое, налитое до предела тело? В молодости или в среднем возрасте таких ощущений не бывает. Сейчас появились. Но тут я ухватилась за дерево, и вдруг до меня дошло (почему же так поздно?!) — то, что происходит в дереве, происходит и во мне. Звучит весьма наивно. Но вот само это ощущение явило облегчение, обретение радости. Вдруг я конкретно ощущаю, что я сама есть и этот лист, и этот ствол, и этот цветок… Такое чувство, будто мне открылся мир.
— Без чего вы в своем мире не можете обойтись и что не хотите в нем видеть?
— Вы знаете, в мои годы хорошо то, что ощущения уже не столь сильны. Уже нет гнева. Уже нет такого ощущения ненависти, агрессивности… Это своего рода облегчение, которое все–таки преподносит старость. Я этим в своей голове довольно–таки много занимаюсь. В старости угнетают физические состояния. Лишь они. А ощущения не угнетают. Я начинаю себя среди них удобно чувствовать. Этикет становится равнодушным. Я могу себе позволить. В искусстве также: если я говорила "позволю себе", то и позволяла. И картины эти абсолютно никому не нравятся. Кроме гурманов. А другие думают: старуха спятила! Но у меня было желание поребячиться, почувствовать себя ребенком, и я позволила себе это. И мне все равно, что об этом говорят.
— Был ли у вас Учитель?
— Знаете, нет. Ни в начальной школе, ни в средней…
— Был ли кто другой или что–то другое, что вы могли бы назвать школой?
— Те несколько художников, которые говорили мне что–то весьма резкое. Такое, что выслушивать это было очень неприятно. Но это дало возможность думать, анализировать: почему? И я сама вижу, что они были точны и весьма близки к истине.
— В какой мере на вас оказали влияние те исторические перемены, которые вы пережили?
— До времен Карлиса Улманиса были партийные времена. Родители разницу между ними охарактеризовали коротко: наконец–то эта жижа кончится. А вот Уга Скулме (брат отца) воспринял это весьма трагично, потому что многие его друзья были социалистами. А я на это смотрела примерно так же, как мои родители.
Здесь уместно добавить, что у меня был очень закаленный жизнью отец, одаренный большим, восхитительным, завидным мужеством. Кроме того, он прошел реальную войну солдатом. Я была ребенком, у которого было за что боготворить отца. Во все переломные времена отец оставался очень спокойным. Также и во время прихода советской власти.
Меня скорбь настигла в 1941 году. Кузена, которого я очень любила, взяли из военного училища и выслали. Второго кузена арестовали в Екабпилсе. Лучшую подругу отправили в Сибирь. Так что я это все переживала очень индивидуально. Во время прихода немцев я была в Малпилсе.
Потом наступило время, когда довлела любовь. Потом Ленинград, институт Репина… Исторические переломы — смерть Сталина, оттепель… Внутренние, личные переломы. Вступление в партию…
— Вы были среди наиболее ярких людей Атмоды. Во что сейчас вылилась энергия тех лет?
— Естественно, она должна была трансформировать
Но было время, когда даже о возможности Латвии стать государством говорили, что это утопия. И то, что народ, не зная, каким будет итог, смог в едином порыве выступить за независимость, есть чудесное событие.
— Это чудесно, но почему в государственной практике предпочтение было отдано не тому уровню, к которому звал Юрис, а, скажем, очень приземленным, даже циничным взглядам прагматиков? Чего не хватило латышам?
— Полагаю, что опыта. Не было никакого опыта по развитию разных видов народного хозяйства. Перерыв, в течение которого нельзя было решать своей головой, сотворил большое зло. Кроме того, довоенная Латвия — это ведь период лишь одного поколения. Недостаточная тренировка…
— Да, недавно слышал: чтобы был эффект, надо окончить по крайней мере три университета. Один — дед, другой — отец, третий — ты…
— Моим мерилом является то, что я прочувствовала жизнью, что в жизни видела, что признала достойным хозяина. Господь наделил меня интеллектом на весьма хорошем уровне чувствований. С умом потруднее. Судя по себе, я говорила, что мы не склонны к анализу. Латышам недостает такого багажа.
— Журналу Ir (2010 г.) вы сказали: для латыша характерен пафос, меньше глубины, чуть притворства. Латыш не ищет, не анализирует…
— К этому следует добавить увязание в потребительском обществе. Оярс в свое время занимался этими темами, и я от него тоже набралась кое–какой образованности по этой части. Нечего надеяться на вершины, если твои интересы исчерпаны холодильником, "жигулями", "ладой"… Это было так в конце шестидесятых — начале семидесятых. Но все продолжается. Лишь в другой "инаковости". И при другой открытости. Одним словом — на уровне вагины.
— Как вы оцениваете нынешнее положение нашей культуры? Чего ей не хватает, чтобы мы стали удачливыми?
— Не хватает того, что ни одно правительство до сих пор не поняло, как нам одеваться, чтобы выйти в свет. То есть чем нам гордиться. То, что мы создали, надо уметь показать. Вот это надо было понять. Уметь одеться — это значит: если имеешь вещь, надевай. Она для того предназначена. Выступи во всей своей красе. Умело покажи ее.
— А чего нам недостает, имея в виду не масштаб представлений Министерства культуры, а гораздо более объемное и цельное мировосприятие? Такое, каким его в свое время рисовали, например, латышские писатели Вирза и Бригадере.
— Культура показала, что независимость нам знакома. Мы все, кто больше, кто меньше, оказались созревшими для независимости. Мы смогли в этом смысле и в известной мере стать равноценными. Но сейчас нам надо понять, с чем выходить в свет. Это культура, это, возможно, садоводство, это ремесленничество
— А я спросил не столько о внешнем, о том, что предъявить другим, сколько о том, почему наше собственное самочувствие не настроено на удачу? Почему ноем?
— Возможно, потому, что мир очень раздроблен. Все раздроблено. Очевидно мельчание, мельчание наших собственных мыслей… Эпохой востребован совершенно иной тип мышления. Не зря и об искусстве говорят: нет уже таких (!) работ. Во всем мире. Цельность исчезла. И все–таки если кто–либо сегодня проявит цельность своей личности, то люди это увидят. Например, все те авторы, которые приняли участие в биеннале Вильгельма Пурвитиса — цельные личности.
— Что для вас сакрально?
— Я пользуюсь словом "духовность", и для меня оно, может быть, значит больше, чем для религиозного человека, который тоже им пользуется. Духовно то, о чем имеет смысл говорить. Бабушки воспитывали меня на библейских историях. Я изучала Закон Божий. Он воспринят мною, он знаком мне. Также чувство греха. И ответственность. Наука сейчас все открыла до невозможности. И все же меня занимает невыразимое. То, что хранится в душе, в сердце. Или в мозгах. Те несколько чудес, пережив которые ты не в состоянии сказать ничего, кроме "о, Господи!". Я могу их сравнить с моментами счастья, которые дает или давала физическая близость. Это будто соприкасаются остриями две иголки, два нерва.
— Юрису Рубенису вы говорили, что не умеете молиться… О чем вы молите?
— Только о самом близком. Ведь это самое дорогое. Не о произведении искусства же. Не о том, чтобы оно у меня получилось. Но моменты, когда руки сами складываются, дает, например, и Кремер со своей скрипкой. Именно скрипка. Также виолончель. Иногда и в живописи случаются моменты откровения. Я их знаю. И тогда я ужасно рада.
— Что для вас значит Христос?
— Христос мне важен в качестве личного примера. Особенно тогда, когда тебе самой иногда приходится пережить состояния Христа. Возможно, не в физическом смысле, а духовно.
Я очеловечиваю Христа. Мне нравится эта легенда, мне нравится этот миф. Потому как точнее уже ничего не написать. Ни один роман, ни одна история жизни не в состоянии выразить лучше те серьезнейшие переживания в жизни человека, которые предстоят каждому. Мне нравятся чувства, которые позволяют искать Бога в себе.
Мне нравится атмосфера в храме, мне нравится архитектура. Мне надо было помириться с Юргисом Скулме, о котором я плохо высказалась. Я вошла в православный храм. Представьте, какое чувство освобождения, покаяния меня обуяло! Моя готовность — это уже была молитва! Но она не состояла из слов. Это было ощущение полноты. Полной отдачи себя, когда слезы льются и слова этой отдаче ни к чему. Потому что они в этом случае содержали бы лицемерие и банальность. Они бы образовали лишь предоставленное литературой клише.
И тут я прихожу к тому, что мне противны клише и догмы любого рода. Потому мне нравятся те люди, которые хотят вырваться за пределы готовых клише. В том числе предоставленных искусством. Любым искусством.