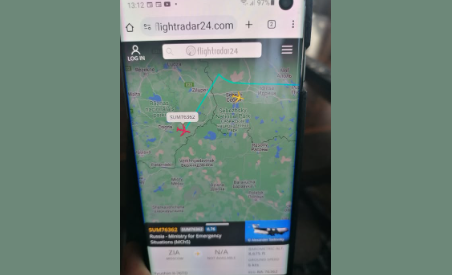В общественном мнении ей повезло меньше, судьба и мировоззрение её автора — далеко не такая истоптанная тема, как биография и взгляды Булгакова. Между тем Леонид Соловьёв кажется мне писателем ничуть не меньшего масштаба, и книга его по меркам сталинского времени — ничуть не меньшее чудо. Правда, кроме дилогии о Ходже Насреддине, он ничего гениального не написал: «Иван Никулин, русский матрос» и, допустим, «Книга юности» — произведения замечательные, но совсем не того класса. Ну, так и Де Костер, хоть «Фламандские легенды» и «Свадебное путешествие» — отличные книги, но не «Уленшпигель» же. Главную книгу можно написать одну, прочие — подготовительные этюды или воспоминания.
Все, кто вообще слышал о Соловьёве, знают, что он сидел и что вторая часть «Насреддина» — «Очарованный принц» — написана в заключении. Так получилось, что начальник лагеря узнал его, читал первую повесть и дал ему возможность написать вторую. Именно контраст между этой ослепительно праздничной книгой и местом её написания обеспечил Соловьёву особенно благодарную память читателей, но вот в чём чудо «Насреддина»: сквозь реальность арабского Востока XIII века нигде не проступает реальность лагерная. Лишь в очень немногих эпизодах он проговаривается — можно понять, что не в курортных условиях это сочинялось. Ну, например:
«Всё, всё проходит; бьют барабаны, и базар затихает — пёстрый, кипучий базар нашей жизни. Одна за другой закрываются лавки суетных мелких желаний, пустеют ряды страстей, площади надежд и ярмарки устремлений; становится вокруг тихо, просторно, с неба льётся грустный закатный свет, — близится вечер, время подсчёта прибылей и убытков. Вернее — только убытков; вот мы, например, многоскорбный повествователь этой истории, не можем, не кривя душой, похвалиться, что заканчиваем базар своей жизни с прибылью в кошельке.
Прервём наши грустные размышления; зачем переживать нам старость дважды, один раз — в предчувствиях, а второй — наяву? Не так уж много дней подарено нам, чтобы могли мы тратить их с подобным безрассудством, позволяя будущему пожирать настоящее; полдень позади, но до закатных барабанов ещё далеко, и базар ещё шумит полным голосом; торгуют все лавки, затоплены тысячами людей ряды, волнуются и гудят площади; крики водоносов сливаются с гнусавыми воплями нищих и пением дервишей, скрипят арбы, ревут верблюды, звенят молотки чеканщиков, рокочут бубны шутов и плясуний, харчевни расстилают свои пахучие дымы, блестит под солнцем шёлк, переливается бархат, играют узорами дорогие ковры — нет конца базару, и нет предела его богатству».
Но эти лирические отступления немногочисленны, нужны они для того... то есть автору они нужны были, чтобы горько пожаловаться, и мы его понимаем. Но читателю нужны они затем, чтобы соотнести себя с автором, чтобы собственная наша жизнь показалась нам не безнадёжной, хоть и печальной; чтобы наедине с книгой могли мы признаться в том, что заканчиваем базар своей жизни не слишком триумфально. А кто заканчивает его иначе? Для кого закатные барабаны звучат победно? «Всё, всё проходит». Мужественная скорбь Соловьёва, прорывающаяся так редко, утешает нас — и мы вместе с Насреддином готовы к новым приключениям; книга эта написана мудрецом, который всё про нас понимает, и мудрость его милосердна.
Жизнь Соловьёва по нынешним меркам коротка — 55 лет: 1906–1962. Он родился на самом экзотическом Востоке, в Ливане, где его отец служил помощником инспектора северо-сирийских школ Императорского православного палестинского общества. Общество это, содействующее православным паломничествам на Святую землю, существует по сей день, возглавляет его Сергей Степашин.
В 1909 году семья переехала в Самарскую губернию, а в 1921 году, спасаясь от голода, — в Коканд. Соловьёв окончил механический техникум и работал ремонтником, в разъездах по Средней Азии наслушался местного фольклора, с 1923 года печатался в «Туркестанской правде», а в 1927 году получил вторую премию журнала «Мир приключений» за рассказ «На Сыр-Дарьинском берегу». Переехал в Москву, поступил на сценарный факультет Института кинематографии. Это был первый набор сценаристов, ускоренный — всего два курса. Тогда же, в 1930 году, Соловьёв издал сборник «Ленин в творчестве народов Востока», с первой и до последней строки написанный им лично. Книга довольно исключительная, достойная Насреддина. Подобная выходка в случае разоблачения сулила бы ему кирдык, но он стилизовался до того убедительно, что и поныне находятся люди, искренне убеждённые, что перед ними подлинный среднеазиатский фольклор. Ну а кто бы проверил, проехав его маршрутами?
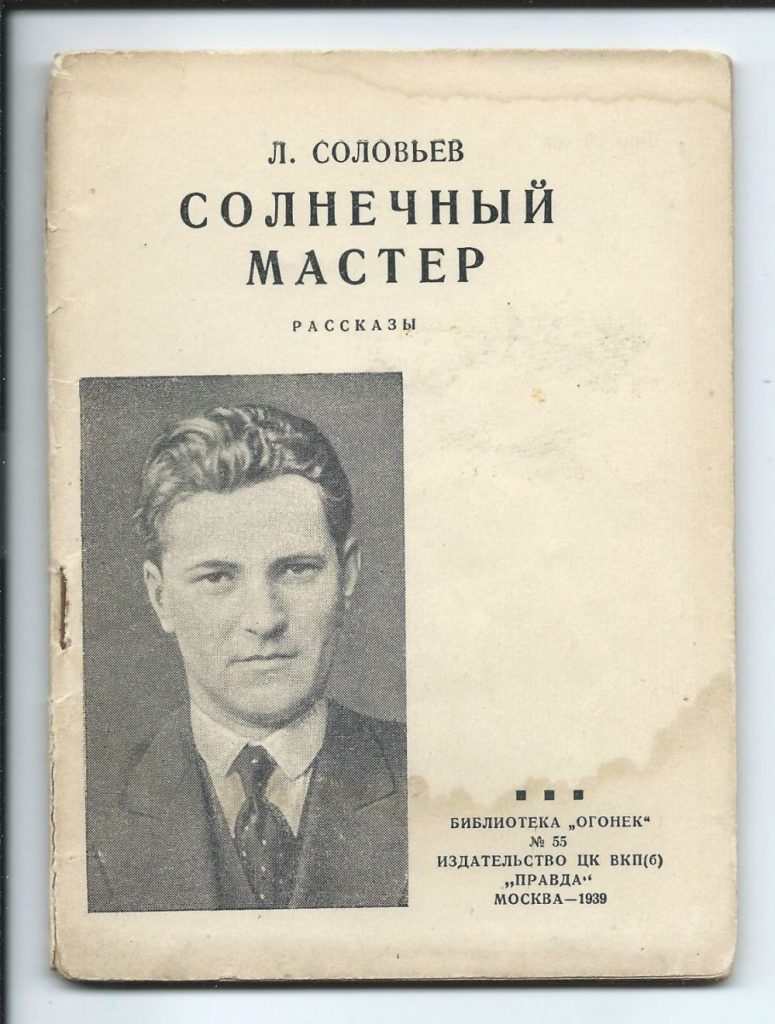
Стилизации превосходные — взять, например, песню, записанную якобы в Ферганской области в 1925 году:
Сейчас есть много гафизов, немногим уступающих Фрикату и Нахаяи.
Но поют гафизы не о красавицах и не о цветах: Они поют о новой свободе,
Они поют об аэроплане,
Они поют о благоденственной будущей жизни, —
Но больше всего они слагают песен о Ленине.
И это они делают потому, что без Ленина не родилось бы никаких песен,
Кроме тех, которые похожи на визг собак, то есть таких, которые восхваляли царя Николая
И его генералов, полковников и солдат.
Ленин дал гафизам право петь о чём угодно, —
И они сразу все запели о нём.
Это достаточно плохо, чтобы быть аутентичным, и вместе с тем почти гениально по точности риторических приёмов; это достойно стилизаций Павла Васильева под творчество казахского поэта Мухана Башметова — стилизаций, никогда и никем не превзойдённых.
А некоторые сочинения Соловьёва не уступают Хармсу — вот, например, таджикское сказание:
«Однажды пошёл Ленин к освобождённым говорить им слова правды, и когда выходил он с собрания, прямо в сердце пустил ему две стрелы, напитанные ядом, Кучук-адам, превратившийся в женщину. Но не умер Ленин. Приполз к нему ак-чуальчак, раз в сто лет выползающий из земли, и пустил своей слюны в раны Ленина. Ленин выздоровел, а женщину-Кучук-адама совет освобождённых приговорил к смерти. Но не испугался Кучук-адам. Он знал, что ничто не может убить его, кроме яда ок-илен. И думал он: Притворюсь я мёртвым, после незаметно убью Ленина. Но приполз в совет ок-илен и своим ядом напитал стрелы. Поразили те стрелы прямо в сердце Кучук-адама, и от его тела распространился смрадный дым.
Шли года. Ленин строил новую жизнь. Не слышно было на земле стонов. Не было видно слёз и крови. И говорили степи солнцу и звёздам: Вот Ленин, освободивший землю».
2
В 1932 году Соловьёв издал повесть «Кочевье», в 1934-м — сборник рассказов «Поход «Победителя»», некоторые из которых понравились Горькому, а в 1938-м — повесть «Высокое давление», переиздававшуюся впоследствии под названием «Грустные и весёлые события в жизни Михаила Озерова». Вот это уже интересно, потому что книга явно талантливая, находящаяся, так сказать, в советском мейнстриме этого времени, но она ясно показывает, почему невозможно было продолжение цикла о Бендере. Бендер может только эмигрировать, если ему повезёт:
«В Советском Союзе жить ему было нельзя. Земля под ним горела. Он решил бежать за границу, в Персию. Персия его привлекала патриархальностью. Кассы там, наверное, все старого образца, и вскрывать их можно шутя, мимоходом. Правда, ворам в Персии отрубают руки, но что это за воры? Это сплошные слёзы, а не воры! Там, наверное, никогда ещё не видели настоящего специалиста по несгораемым шкафам, известного в Москве, в Варшаве, Одессе, даже в Бухаресте и Константинополе... Такой человек может один разорить всю Персию».
Вот говорят — у Ильфа и Петрова не было учеников в тридцатые, появились они только в шестидесятые; были, как видим, но развернуться им было негде. У Соловьёва не было такого слога, как у одесситов, но был опыт знакомства с той самой Персией — с настоящим Востоком, куда Бендера занесло в третьей части «Телёнка»; Соловьёв услышал этот намёк.
Повесть эта немного похожа интонационно и сюжетно на «Судьбу барабанщика» Гайдара. Своего голоса тут ещё нет, и он, кстати, был Соловьёву не нужен: когда он начинает говорить от своего лица — как, скажем, в «Книге о юности», — оказывается, что голос у него стёртый, обыкновенный. Это бывает с великими актёрами — в жизни они никому не интересны; случается такое и с писателями. Елизавета Васильева (Дмитриева) была интересный человек, но не такой интересный, как Черубина де Габриак. И Соловьёв был гением, когда стилизовался, и совершенно обыкновенным советским писателем, когда писал сам по себе.
«Высокое давление» — чистой воды сценарий, не зря автор кончал сценарный факультет, там правильно расположены экспозиция, завязка и кульминация, там всё, как положено в романе второй половины тридцатых: наличествуют вредители, международные шпионы, запланированное крушение поезда, есть вор-авантюрист, рассуждающий о своей сверхчеловечности и о том, что ему не по пути с советской властью, но этот вор уже утрачивает всё человеческое обаяние, переставая быть Аметистовым, Обольяниновым или Бендером (в книжке Соловьёва его зовут Катульский, и он омерзителен). Но там есть куски, которые обещают Соловьёва будущего, Соловьёва настоящего:
«Продавец безмолвно смотрит в пёструю суету базара. Лысый лук с ехидной, в три волоса бородёнкой, чугунные, не в подъём, тыквы, фиолетовая свёкла, оранжевая морковь, скрипучая тугая капуста, репа, огурцы, петрушка, яблоки. Набухли тяжёлым соком груши, хранящие отпечатки недоверчивых пальцев покупателей. Косточки сами выскакивают из матово-пыльных слив. Густой ленивой струёй льётся молоко, морщит сдвинутая черпаком сметана, осыпается рыхлая, сырая груда творогу. Тают на солнце пласты свиного сала, и бумага под ними становится прозрачной. Висят бело-розовые бараньи туши, тупо обрубленную хрящеватую шею сжимает ожерелье запёкшейся крови. Нож пластает дымящиеся коровьи ляжки, топор, хряская, дробит сине-глянцевитые суставы; руки продавцов красны до локтя. Чинными монастырскими рядами уложены кверху ножками утки, куры и гуси, завернулась восковая кожа, зыбится тёплый жёлтый жир».
Всё это скоро станет базаром восточным — главным местом действия дилогии о Насреддине.
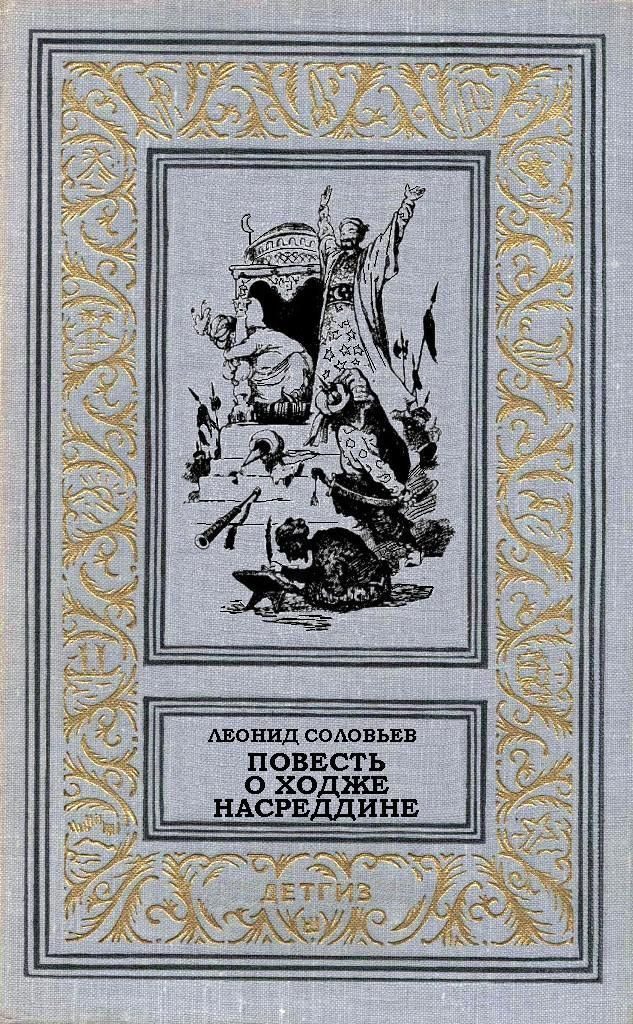
И в 1940 году он издал «Возмутителя спокойствия» — первую часть дилогии, сразу принёсшую ему славу, причём не только в СССР. Во время войны он был корреспондентом газеты «Красный флот», написал повесть «Иван Никулин — русский матрос» и сценарий по ней (это единственная цветная картина, снятая в СССР за время войны, и одна из немногих комедий; снял её Игорь Савченко, прекрасный, рано умерший режиссёр, учитель Хуциева, Алова и Наумова, и фильм получился удивительно хулиганский, свободный и смешной). Соловьёв получил медаль «За оборону Севастополя» и орден Отечественной войны первой степени. Но в 1946 году его арестовали — эта волна послевоенных арестов недостаточно подробно исследована, она предшествовала «борьбе с космополитами» и имела целью запугать тех, у кого после Победы развязались языки.
Соловьёв принадлежал к их числу: он позволял себе в разговорах упрёки в адрес Сталина, который теперь всю честь Победы припишет себе одному, а между тем «его мы очень смирным знали»... Кто именно на него донёс — остаётся загадкой. В фильме «Возмутитель спокойствия Леонид Соловьёв», по сценарию Бориса Добродеева (авторский текст неслучайно читает лучший Бендер российского кино — Сергей Юрский), высказывается версия — правда, очень осторожно, — что откровенен по-настоящему он был только с тем самым Виктором Витковичем, соавтором своих сценариев о Насреддине.
Проходил он, однако, по одному делу с одесситами — на всех путях были у него эти пересечения с Ильфом и Петровым! — учениками Бабеля Семёном Гехтом и Сергеем Бондариным, так что кто-то оговорил всех троих. Ни Гехт, ни Бондарин Соловьёва не оговаривали. Видимо, всех тогдашних московских остроумцев уже пристально опекали, Соловьёв за словом в карман не лез и вообще отличался личной храбростью (во время обороны Севастополя за то и получил орден, что, будучи военным корреспондентом, после смерти офицера взял на себя командование). Вероятно, эта-то храбрость и радость победы заставили его забыть об осторожности.
Сам Соловьёв был человек не совсем советский и воспринял свой арест, так сказать, метафизически — как расплату за личные грехи, за плохую жизнь с женой, Тамарой Седых. Он любил её всю жизнь и всегда чувствовал вину — за измены и загулы. Он получил десять лет и был отправлен сначала в Дубровлаг, откуда потом мог поехать на Колыму, но его узнал кто-то из начальства; он получил должность смотрителя бани и возможность писать. Здесь он написал «Очарованного принца» — вторую часть «Повести о Ходже Насреддине»; рукопись у него изъяли и вернули только перед освобождением.
В 1954 году он освободился, приехал в Москву, но жена его к себе не пустила; он переехал к сестре в Ленинград, там вскоре женился на школьной учительнице Марии Кудымовской и опубликовал наконец «Насреддина» отдельной книгой. Успех был огромный, переводы на все европейские языки, подрабатывал он на «Ленфильме» сочинением сценариев — в частности, написал сценарий «Шинели» для режиссёрского дебюта Алексея Баталова. В 1961 году его разбил паралич, и год спустя он умер: несмотря на полное отсутствие жалоб, лагерь его, видимо, надломил необратимо — и физически, и душевно. Он прожил всего 55 лет.
3
«Повесть о Ходже Насреддине» — последний советский плутовской роман, книга, которая словно пришла из двадцатых, когда этот жанр был основным: «Хулио Хуренито» Оренбурга, «Похождения Невзорова, или Ибикус» Толстого, «Растратчики» Катаева, «Форд» Берзина, «Зойкина квартира» Булгакова, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, цикл о Бене Крике Бабеля — и множество вещей второго ряда, подражательных, балансировавших между криминальной хроникой и романтическим повествованием о героическом изгое. Почему-то — на самом деле вполне понятно почему — советская литература сосредоточилась на трикстерской фабуле, а не на производственном романе, не на судьбах пролетариата и крестьянства, даже не на перипетиях Гражданской войны: главным героем двадцатых стал великий провокатор, он же великий комбинатор, благородный жулик, наследник персонажей Стивенсона, Джека Лондона и О. Генри.
Ясно же, что про жулика читать интересней, чем про крестьянство и пролетариат, да и сказать правду о пролетариате и крестьянстве было немыслимо.
Тогда как умеренно отрицательный, но обаятельный герой плутовского романа имел право откровенно высказываться о советской действительности — не нарушая при этом идеологических запретов, поскольку с отрицательного героя какой спрос?
Вот из тех времён как будто прибыл Ходжа Насреддин, но ясно, что действовать он уже должен был в историческом романе, согласно новой моде; описывать реальность, полную вредителей, приличному писателю было уже трудно. «Сейчас нужен будет Вальтер Скотт», — предрёк Катаев и не ошибся; исторический роман мог повествовать либо о развитии русской революции, либо об Азии, поскольку спрос на Азию был огромен.
Об этом азиатском изводе русской прозы написано до обидного мало, потому, вероятно, что пришлось бы признаваться в довольно неприятных вещах: Россия в это время осознаёт себя именно как Азия — и этот тренд сохраняется до семидесятых. «Хоть горяч и жесток, но прекрасен Восток» — эта песенка из русской версии мультика про Аладдина годится в качестве девиза для прозы Василия Яна о «Нашествии монголов» (так называлась его историческая трилогия), для «Старика Хоттабыча», автор которого Лазарь Лагин великолепно уловил тенденцию и во многом предсказал дилогию Соловьёва; для «Великого Моурави» Анны Антоновской и трилогии Сергея Бородина «Звёзды над Самаркандом» — всё это тяжеловесные многологии об азиатских деспотиях и средневековых полководцах (Георгий Саакадзе, герой «Великого Моурави», тоже не выглядит европейским рыцарем — в его характере акцентируются не столько рыцарские, сколько вождистские черты, понятно ради кого). Россия — Азия, об этом свидетельствует неоспоримое сходство местной деспотии с великими восточными образцами; при всей европейской ориентации русской культуры она жила и развивалась под азиатским прессом. Собственно, «Повесть о Ходже Насреддине» и есть рассказ о странствиях европейского героя — плута, Уленшпигеля, евангельского, по сути, персонажа — по азиатской деспотии.
Ибо Насреддин в исполнении Соловьёва — классический европейский шут со всеми своими атрибутами — безродностью, благородством, странствиями, смертью и воскрешением, любовью к недостижимой женщине, которая его вечно ждёт, туповатым другом (ишаком) и врагом-предателем (ростовщиком Джафаром, прямым потомком рыбника из «Уленшпигеля»), — но в азиатской тюбетейке, а иногда, по роли, чалме. И ценности, которые он несёт, — классические ценности европейского Просвещения, о которых реальный Насреддин, скорей всего, не имел никакого понятия. Соловьёв внедрил в пространство азиатского мифа сугубо европейского героя, благородного жулика, Уленшпигеля и Бендера, заставив его вдобавок быть немного революционером; и средневековый Восток был единственным местом — очень, кстати, похожим на сталинскую Россию, — где такой герой мог жить и действовать невозбранно.

Памятник Ходже Нассредину в Бухаре.
И как ни странно, главная интенция советской власти — она, в общем, совпадала с движением Ходжи Насреддина: он нёс Востоку западные ценности, и советская власть — тоже. Даже Сталин со всей его силой торможения и упрощения не сумел остановить этого главного вектора советской власти — движения на Запад, сквозь всю азиатчину. Сегодня сравнение с советской властью и соответствующим периодом российской истории — говорим сейчас чисто феноменологически, безоценочно, — прямо противоположно советскому вектору: сегодня это движение на Восток, ко всяческой китайщине, как называл это Мандельштам.
Если СССР занимался европеизацией доступной Азии, о чём написаны прозаические и поэтические книги «Большевикам пустыни и весны», «Человек меняет кожу», «Утоление жажды» и прочие, — то постсоветская Россия занимается азиафикацией оставшейся Европы, и если СССР пытался напоить пустыню, то нынешняя российская власть высушивает и ту жалкую влагу, которая ещё осталась. Они могут быть сколь угодно сходны количеством вранья, но цель этого вранья различна, векторы противоположны; вот почему «Повесть о Ходже Насреддине» была возможна при советской власти, а сейчас её никто бы не написал, потому что Уленшпигель ушёл отсюда. Куда — непонятно. Может, подобно Бендеру и Штирлицу, эмигрировал в Латинскую Америку.
В плане языка, конечно, «Насреддин» роскошен — есть подо что стилизоваться, «Тысяча и одна ночь» в этом плане неисчерпаема. Какие чудеса творит Соловьёв из этой стилистики, помнит всякий:
«Ведь если бы этот несравненный и подобный цветущей розе ишак, наполненный одними лишь добродетелями, не прыгнул через канаву и не выбросил тебя из седла, о путник, явившийся перед нами, как солнце во мгле, — ты проехал бы мимо, не заметив нас, а мы не посмели бы остановить тебя!»
Восточная пышность и слишком густая сладость — как если бы рот говорящему, в соответствии с указом эмира из «Возмутителя», набили наилучшей халвой и леденцами, — чередуется тут с отборной руганью и картинами зверств, что и создаёт неповторимую атмосферу Арабского Востока и советской империи; вот почему повесть Соловьёва — блистательный памятник эпохи.
Ещё одна существенная параллель между дилогиями Ильфа-Петрова и Соловьёва — невозможность третьего тома. Собственно, в финале «Очарованного принца» сказано прямо:
«А наши труды окончены; мы прощаемся на этом с Ходжой Насреддином. Душою мы, конечно, ещё не раз вернёмся к нему и вступим в мысленную беседу с ним по различным поводам и случаям, что нам встретятся на жизненном пути, но пером, на бумаге, никогда уже не вернёмся, ибо сказали о нём всё, что знаем и что хотели сказать».
Кстати, привет Соловьёву передаёт и Фазиль Искандер в финале своего уже не совсем советского, не особенно плутовского, но весьма близкого по атмосфере романа «Сандро из Чегема»:
«Так закончилось наше последнее путешествие в Чегем. И теперь мы о нём не скоро вспомним, а если и вспомним, навряд ли заговорим».
Обычная форма европейского романа — трилогия, гегелевская триада; последней законченной трилогией в СССР, не считая полной уж графомании, был автобиографический цикл Горького. Триада — теза, антитеза, синтез — лучше всего подходит для жизнеописания; вторая часть советских неосуществлённых трилогий о Бендере и Насреддине была мрачней, интересней и смешней первой, во многом ещё ученической. Третья должна была рисовать обретение героем некоей несомненной истины, приход его к Богу или по крайней мере к идее, об отсутствии которой так сожалеет Насреддин в финале, чувствуя, что одного упоения жизнью недостаточно; но советский социум не предполагал никакой третьей части, и то, что в «Сандро» она формально есть, — ничуть не приближает эту книгу к разрешению.
Со времени ненаписанного третьего тома «Мёртвых душ» — первого русского романа о странствиях плута — русская литература ищет этот третий том; но ни продолжения истории Чичикова, ни финала странствий Бендера, ни разрешения вопросов Ходжи Насреддина ей найти не дано. Соловьёв создал замечательный эпос о борьбе ума с глупостью и насмешки с подлостью, но открыл причины, по которым все победы ума и насмешки оказываются локальными.
Насреддин не может окончить своё странствие именно потому, что возвращение на родину — в Бухару — для него немыслимо: там самое его имя под запретом, родня погублена или изгнана, дом срыт.
У нашего Одиссея нет Итаки, наше странствие не предполагает возвращения, наша история — кольцо, а не прямая. Дон Кихот перед смертью может вернуться хотя бы в рассудок; Насреддин и так в своём уме. Лучшее, что он может сделать, — это бежать за границу; Штирлиц так и поступил — но не сказать, чтобы там было сильно лучше.
Впрочем, весьма вероятно, что там, где он сейчас, Соловьёв уже написал третий том — и эта мысль так же примиряет с неизбежностью смерти, как первые два тома — с неизбежностью азиатчины и безнадёжной, но благородной борьбы с нею.
Дмитрий БЫКОВ, "Дилетант".