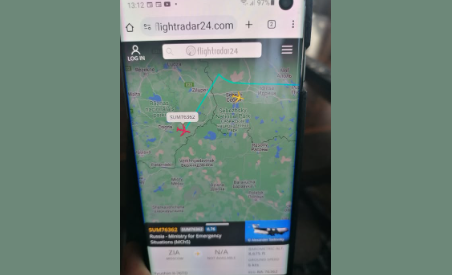Сам режиссер во время обсуждения фильма в Госдуме довольно резко посоветовал депутатам не лезть в искусство своими лапами, потому что сами они ни делать кино, ни разговаривать с молодежью не умеют. Как ни парадоксально, сторону режиссера взял министр культуры, заявивший, что министерство не видит оснований отзывать у картины прокатное удостоверение. Он только посоветовал выпустить фильм в прокат не в День Победы, а 10 мая, что и было исполнено.
У самого Лунгина эта история вызвала примерно ту же реакцию, которую он транслирует в лучших своих фильмах, — смесь ужаса и веселья.
«Гэбэшник был и вправду трогательный дядька»

— Павел Семенович, после «Братства» я наконец понял, про что вы всю жизнь снимаете.
— Во-первых, я снимаю не всю жизнь, а последние 30 лет: поздно начал. А во-вторых, все-таки каждая следующая картина не похожа на предыдущую.
— И тем не менее все они о русском характере, а конкретно — о его склонности к черному юмору в экстремальных ситуациях.
— Пожалуй, верно. Притом что сам я человек сугубо мирный, меня восхищает русская способность демонстрировать лучшие качества именно в экстремальной ситуации, особенно на войне, поскольку война — вообще худшее, что может случиться. И напротив, между войнами, в периоды относительно спокойные и сытые, начинается зверство, нетерпимость и взаимная подозрительность. Русские — хорошие воины. Я бы даже сказал, прекрасные. И увы, плохие обыватели. Я бы даже сказал, ужасные.
— Как вы полагаете, этот характер цел?
— Цел и неизменен, куда он денется.
— Но претензия к фильму у меня есть, и серьезная. Зачем вам там понадобился идеальный сентиментальный гэбист в исполнении Кирилла Пирогова?
— Это едва ли не единственный абсолютно реальный персонаж. Картина выросла из разговоров с Николаем Ковалевым, из-за которого я и взялся делать этот фильм. Казалось бы, генерал армии, полтора года руководил ФСБ (собственно, передал Путину ключи от него), депутат… То есть он как бы всего достиг, и при этом он был трогательный, наивный человек, ничего в этой жизни не понимавший.
Он очень удивлялся, например, почему у него не получается найти деньги на картину (а у него не получалось). Он вообще-то был хороший дядька. И болел, все чаще отлучался в Германию…
Но когда Ковалев рассказывал про Афганистан, он вспоминал не какие-то там стратегические перемещения, а смешные маленькие истории, типа как прапор продал афганцам гранатомет, но не отдал, обманул, афганцы его за это украли. И теперь наши должны были его вызволять из плена.
Все рассказы — с позиции маленького человека. И Кирилл Пирогов играет трогательного парня, который в финале отказывается пить с комдивом, уничтожившим из-за мальчика весь кишлак.
— У меня по картине ощущение, что эта война не была ошибкой. В том смысле, что она была СССР необходима — и потому логична.
— Ну, для СССР, для России на всем протяжении ее истории такие войны были необходимостью, да — ровно по той логике, по какой в 2014 году надо было поднять дух Крымом и Донбассом.
— Не дух, а рейтинг.
— Почему, именно дух в первую очередь. Это обычный российский выход из положения. Ну и подумали в политбюро, что сейчас — малой кровью, могучим ударом… А духа советского, подвыветрившегося, идеологии советской оказалось недостаточно для победы. Вот эти мусульманские горы, камни, неподвижные на много веков люди — пережали, передавили советское. И мы ушли. Как говорит там комдив: победили, но ушли. Насчет «победили» и вообще возможности там победить можно спорить. Но большинство воевавших там считают, что их предали.
— Этот комдив, как я понимаю, срисован с Громова?
— Боже упаси. Я никогда Громова не видел, но знаю, что он черноволосый. Кищенко — светловолосый, лысеющий, сходство самое отдаленное.
— А когда у вас мальчик одиннадцатилетний пристреливает советского летчика, который сам же ему и отдал этот пистолет… Тут не получается метафора, что мы же сами их и вооружили, и довели до зверства?
— Да почему зверства? Они прекрасные, жестокие, твердые люди. Терпеливые, как камни. Воюют не только с нами, но и друг с другом, живут в этом с рождения, другой жизни не представляют. И мальчик стреляет от чистой растерянности, и лицо у него сразу меняется сильно…
С пистолетом — тут хитросплетение жизни, обычное, часто встречающееся. Летчик этот — он же напрасно бежит, его же обменивать ведут, просто он этого не знает. Они обо всем договорились, он фактически свободен, но видит возможность побега — и не может не убежать. Прыгает в эту ледяную реку и исчезает.
И с актером, который его играл — Шихалеев его фамилия, — та же история: он в эту ледяную воду вошел, не ойкнув, не поморщившись. И весь день босиком ходил по этим жутким камням. Когда включается кураж — нашего человека не остановишь.
Я там очень люблю Василькова — и персонажа, и актера: бог войны, человек, для этого рожденный и это умеющий. Актер, кстати, выдающийся. Он за картину очень бился, то есть повел себя в лучших традициях братства. В фильме все хорошие, там нет плохих героев, в чем и есть суть. Просто вовлекла их история в страшное дело, и они в нем крутятся, как в воронке. А потом вернулись — а страна-то другая.
— У меня такое чувство, что это поколение так и осталось перерубленным пополам.
— Да, они как-то не успели реализоваться в советской жизни, под которую были заточены, а в новой себя не нашли, потому что к ней никто не был готов. Это в полном смысле потерянное поколение, поэтому они и не реализовались толком ни в бизнесе, ни в искусстве. Те, кто моложе, были гибче и вписались, а те, кому в 1989-м было 25… от них осталось очень мало.
— А вы помните «Ногу»?
— Замечательный фильм. Там лучшую роль сыграл Охлобыстин. Я оттуда запомнил его жуткий смех… После «Царя» он вернулся к актерской работе, я горжусь. «Нога» — это ведь по Фолкнеру, ты помнишь? Просто перенесли на афганский материал. У мальчишки-солдата ампутировали ногу, она ожила и творит зло. Такой трагический «Нос». Вот у Охлобыстина с тех пор такое же раздвоение: он живет нормальной жизнью с детьми и матушкой, а какая-то его внутренняя нога хочет всех сжечь.
— Это тоже, по-моему, следствие постсоветской травмы.
— Эта травма знаешь с чем связана? У меня такое чувство, что советский мир был страшно инфантилен. Что мы, жившие тогда, читавшие стихи и бухавшие, на самом деле сидели под столом, за длинной, низко свисающей скатертью, и играли в свои детские игры. А в комнате в это время шли взрослые дела — обыск, например. И нам из-за скатерти были видны, допустим, сапоги. Но всей картины мы не видели и потому читали стихи и сегодня ностальгируем по стихам, а не по сапогам.
«Ты приходишь — и вываливаешь кишки»

— Вам в июле 70, простите за напоминание. Отмечать будете?
— Да как отмечать, когда в июле в Москве никого нет… и меня, кстати, тоже… Что такое в наше время юбилей? Творческий вечер в ЦДЛ? Не совсем понятно, кому это нужно. Мне — вряд ли.
— Но если бы вы делали ретроспективу своих фильмов — что бы вы туда включили?
— «Такси-блюз» — потому что первая картина и потому что, когда пересматриваю, поражаюсь энергии, которая в ней чувствуется. Откуда что бралось? Просто, когда ты делаешь первое кино, ты ничего еще продемонстрировать не можешь, ничего не умеешь, еще почерка нет. И ты можешь просто прийти и вывалить на стол свои кишки… или даже скорее яйца. В этой картине ничего от моей манеры еще нет, но яйца чувствуются.
Потом — «Луна-парк», прошедший сначала как-то полузамеченно. Востребован — и в кино, и в жизни — он оказался позже. Там потрясающая роль Олега Борисова и совсем новый типаж неонацика, которого тогда еще никто не видел, а я угадал. Потом — «Свадьба», такое страшноватое русское веселье. Наверное, «Остров». И — либо «Царь», либо «Братство».
— Когда вы с Мамоновым работали в «Острове» 16 лет спустя после «Такси-блюза», он был тот же?
— Совершенно другой человек. Неузнаваемый. Поэтому второй канал так и боялся вкладываться в картину: непредсказуемый тип! Но все получилось. Фильм прозвучал. А сейчас, думаю, не получилось бы. Сейчас бы посмотрели максимум 50 тысяч человек.
— Не думаю. Тема церкви в центре.
— Да, но отношение к ней другое. И фильм про предателя, который переродился и стал святым, скорей всего не запустили бы вообще.
— Как вы относитесь к фильму «Подстрочник», про вашу маму Лилианну Лунгину?
— Как к абсолютному чуду, и сегодня, кажется, его бы тоже так смотреть не стали. Я сам не понимаю — ничего не происходит, пожилая женщина рассказывает свою жизнь… Благодаря этой картине я снова стал сыном той самой Лунгиной. Потому что в какое-то время она стала матерью того самого Лунгина, но «Подстрочник» все вернул на место. Дорман как-то оказался… лучшим сыном, чем я. Я бы никогда не смог снять такое кино о маме — дистанция нужна, видимо…
— Тарковский тоже собирался снимать мать в «Зеркале» — и не смог.
— Тут какой-то барьер, да. И объяснить такую популярность картины я могу только одним маминым свойством: стоило ей войти, допустим, в купе, как все начинали ей рассказывать свою жизнь. Не слушать ее, а именно ей исповедоваться. И меня даже бесило то, что она мгновенно завязывала знакомства, что эти люди потом в этой квартире, где мы сейчас разговариваем, ночевали… Но такое было чувство, словно она всем отпускает грехи: ну ладно, ничего страшного, живи дальше. Может быть, мне бы хотелось, чтобы такое чувство было от моего кино — от «Бедных родственников», скажем, где тоже нет плохих…
— А Карлсон в ее переводе действительно срисован с вас?
— Да это скорее я срисован с него, потому что придумала его все-таки Астрид Линдгрен, и, поскольку мама перевела, меня стали с ним ассоциировать. Да, какие-то мои словечки типа «Пустяки, дело житейское» достались ему, но вообще и «Карлсон», и «Пеппи» получились так классно потому, что отец с матерью регулярно подкалывали друг друга, и стиль их общения, непрерывного взаимного курощения, там сохранился.
«Евреи — драматургически перспективно»

— Я слышал о вашем плане снимать фильм «Красный арсенал» — про что?
— А я передумал его снимать. Там была история — как бы «Такси-блюз» на новом уровне: одна из восточных окраин империи, армия ушла, оружие осталось, его стерегут двое — интеллигент и такой вот человек войны, они дерутся постоянно и становятся почти братьями.
— «Скованные одной цепью».
— Ну да, только у нас вместо негров евреи, но коллизия тоже интересная. «Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучались, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы?» Это, как ты помнишь, Бабель, но зато драматургически получилось перспективно.
— И что вы будете делать вместо?
— Вместо — я хочу сериал. Потому что в кино сейчас уже никто не ходит, этот род искусства заканчивается. А сериал я хочу делать по «Крутому маршруту» Гинзбург.
— Зачем?
— Как показал эксперимент Дудя с фильмом про Колыму, люди перестали это знать. А знать надо. Если уговорю Юлю Пересильд — она идеальная актриса для этой роли, есть в ней, помимо красоты, огромная внутренняя сила. Конечно, материал ужасный — лед и лагерь, но я ведь снимал уже про лагерь.
«Этот фильм я сниму к 180-летию!»
— Интересно, Путин может быть героем фильма?
— Путин абсолютно закрыт, мы ничего не знаем про него. В этом смысле — в смысле железного занавеса между нами и властью — советская власть вернулась; в остальном, конечно, все другое.
— И хуже.
— В чем-то хуже, потому что народ действительно сильно портится от стабильности. Но в чем-то лучше — красивее, сытее, как-то ленивее, а следовательно, свободнее… А стабильность есть. Я выхожу на улицу и чувствую ее. Сколько бы ни говорили о протестных настроениях, о растущем недовольстве — я иду по улице и чувствую абсолютную стабильность, причем в провинции даже больше, чем в Москве. Все говорят: денег нет. При этом масса кафе, и все они битком. И все красиво. Цветы цветут.
— Но не пахнут.
— Да пахнут, просто не совсем так, как мы привыкли… Мы будем жить так еще долго, вне зависимости от того, с Путиным или без Путина. Во Франции я этой стабильности не чувствую, в Англии ее нет и близко, а в России есть и будет еще лет двадцать как минимум.
— А фильм о Донбассе вы хотели бы снять?
— Очень хотел бы и знаю, как это сделать. О, какой мог бы быть фильм! Ведь это Гуляйполе, очень много общего, это попытка построить русский рай. Расстрелять на площади всех плохих, отнять все у богатых и раздать бедным…
И это была бы история добровольца его глазами. И второго — такого местного начальника, стихийно возглавившего город. Он-то и осуществляет там всю эту справедливость. А в конце доброволец убивает его, потому что он никакой не доброволец, потому что он послан его убить, как капитан Уиллард — полковника Курца. Такой Apocalypse now на русском материале. Но не знаю, кто мог бы мне написать этот сценарий, и еще меньше представляю, кто осмелится такой фильм запустить.
— Мединский — нет?
— Он непростой человек, Мединский. Неочевидный. Но думаю, что снять этот фильм я смогу только к 80-летнему юбилею… а то и к 180-летнему. Дожить-то не проблема, медицина творит чудеса, а вот снять такое кино — да, проблема.
— Для вас шагнуть из сценаристов в режиссеры — трудно?
— Не особенно. Я ненавидел писать сценарии, потому что никогда фильм не получался таким, как я видел его, сочиняя. Ты нарубил фарш, а котлету из него жарят другие, и жарят неправильно, не по-твоему. Поэтому труд сценариста так высоко оплачивается. Сколько стоит сегодня роман? Десять тысяч долларов максимум, и это надо писать два года минимум. А сценаристу за 90 страниц платят сто тысяч. И это правильно. Нелюбимый труд должен высоко оплачиваться, а любимый сам себе награда.
— Но вот скорей сценарный вопрос. На Украине победил, по сути, герой фильма…
— Да, и этот случай войдет в учебники.
— В России как мог бы выглядеть такой народный герой?
— Но ведь он уже был. Собственно, с него и началось. Сергей Бодров-младший. Его отец, Сергей Бодров-старший, тоже сценарист, ушедший в режиссуру, мне рассказывал: когда Сережа в длинном черном пальто, застегнутом наглухо, выходил на стадион и спрашивал: «В чем сила, брат?» — двадцать тысяч глоток ревели: «В пра-а-авде!» Он погиб, а мог бы и неизбежно пошел бы во власть, я думаю. Он мог стать главным объединяющим лицом в стране. Последний герой.
— Надо было бы придумать ему политическую программу.
— Зачем?! Программа только разъединяет. Этот герой завораживает резкостью, силой — и пустотой. Подозреваю только, что после Балабанова создать этого героя некому. Да и Балабанов в последней картине, по-настоящему поразившей меня — «Я тоже хочу», — уже совсем не здесь. И русский рай — всегда не здесь. И русский национальный герой — тоже.
Дмитрий БЫКОВ, "Собеседник".