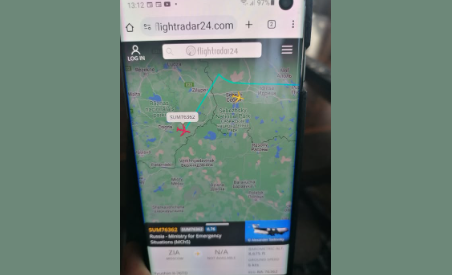Но предполетное время — когда вас уже запрут в особом помещении и не будут выпускать, чтобы, не дай бог, не подцепить какой-нибудь вирус?
Запирают только за две недели до старта. А так мы нормальные люди, ездим на метро, стараемся не болеть. Ходим на занятие в Центре подготовки космонавтов здесь, под Москвой. Также у нас занятия в Хьюстоне, Кельне, где Европейское космическое агентство, и в Токио, где Японское космическое агентство.
Зачем?
У нас Международная космическая станция, все партнеры равны. И поэтому экзамены мы должны сдавать не только по нашему сегменту и по нашему кораблю, но и по сегментам партнеров.
У меня экипаж — это «Союз МС-07», я — командир, бортинженер у меня — американец, Рэнди Брезник, и космонавт-исследователь у меня японец, Канаи. Так что реально международный экипаж.
Вы с ними уже знакомы?
Конечно. Мы начали подготовку. Не так плотно, как хотелось бы, — я уже рвусь в бой. Но мой американец пока не досдал все нужные экзамены и не допущен к тренировкам с командиром. Этой зимой мы прошли зимнее выживание. При нештатной посадке космонавты должны выжить в любых условиях трое суток.
Это было в Калифорнии?
Зимнее выживание, к сожалению, нет. Мы, конечно, хотели бы где-то на берегу Черного моря. Но это под Москвой — все-таки в щадящих зимних условиях. Но, по-честному, у тебя ничего нет, давай выживай. Фактически это тимбилдинг.
Что значит «ничего нет»?
У нас — носимый аварийный запас, зимняя одежда, спички, сублимированная еда (примерно как у летчиков) — немного. На самом деле главное — сделать какое-то укрытие. Из парашюта, на котором мы якобы спустились. Его инструкторы бросают рядом со спускаемым аппаратом. Топора нет, есть мачете.
Раньше это мачете было прикладом космического пистолета. Потом приняли решение, что пистолеты нам больше не нужны — а пистолет там был трехствольный, совершенно уникальное оружие. Два гладких ствола и один нарезной. Предположим, вокруг дикие звери и надо как-то защищаться. Гладкие стволы — для сигнальных патронов и дроби. Ну, я не застал это оружие, видел один раз, на занятиях — даже пострелять дали. Это еще была общекосмическая подготовка, когда нас только набрали. Так что пистолета больше нет, а приклад в виде мачете остался.
Что самое сложное в подготовке?
Честно — ждать своего полета. Особенно первого. Мне как летавшему уже легче, потому что я состоялся как профессионал. Но своего первого полета я ждал десять лет.
А по-прежнему есть те, кто всю жизнь готовились, но так и не полетели?
Конечно. У меня диплом космонавта номер 199. Полетел я 117-м космонавтом со времен Гагарина. То есть фактически нас чуть больше 50 процентов в космос летает. И народ отсеивается каждый год. Кто-то по здоровью, кто-то по неуспеваемости, кто по каким-то еще причинам. Отсеиваются и нелетавшие.
А сейчас вообще есть желающие стать космонавтами?
Желающие всегда есть. Не всегда бывают желающие нужного качества. Требования по здоровью не ослабели (разве что чуть-чуть), а по образованию — выросли. Нас уже не интересуют просто военные летчики: нужен человек, свободно говорящий по-английски, нам нужны люди, легко схватывающие материал, разбирающиеся в науке, в компьютерной технике. И корабль, и вся станция сейчас компьютеризирована, с вай-фаем…
Простите за деликатный вопрос: насколько хорошо труд космонавта оплачивается?
Я бы сказал, что достойно. По крайней мере, когда доллар был 35, мы сравнялись с американцами. И мы гордились, что у нас даже чуть-чуть побольше. Сейчас они снова ушли в отрыв…
У нас, конечно, нет советского обеспечения, когда государство давало космонавтам все необходимое — жилье, машины и так далее. Здесь уже сам крутись как хочешь, но, по крайней мере, космонавт не задумывается о том, как ему кормить свою семью.
А звезду героя дают? И нужно ли это?
Вопрос сложный. Дают. Я — Герой Российской Федерации, летчик-космонавт. Когда президентом у нас был Медведев, его спросили — не пора ли отменить. Ответ был примерно такой: стране нужны герои.
Зачем нужны космонавты? Какая от них польза?
Я специалист по космической медицине, кандидат наук. Есть разработки абсолютно инновационные, российские, которые изначально создавались для космонавтов.
Когда возвращаешься из невесомости, надо снова привыкать к гравитации. Для этого придумали специальные средства, а они оказались жизненно необходимы детям, больным ДЦП. И костюм «Регент», который сейчас запатентован и покупается всеми странами, включая Штаты и Израиль, — это же костюм-пингвин, разработанный для космоса. И уже потом врачи, посмотрев, как здорово он помогает космонавтам в полете, начали его воспроизводить, закупать. Модифицировали, конечно. Сейчас на основе этого костюма разрабатывается система реабилитации инсультников. Это технологии, которые тихо, незаметно входят в нашу повседневную жизнь. И, слава богу, помогают обычным людям.
Разрешено ли вам — хотя бы в общих чертах — говорить о тех задачах, которые вам поставлены на полет? Или это не обсуждается?
Нет, мы абсолютно открыты, у нас нет никаких секретов, мы можем рассказывать обо всех научных экспериментах, и мы это делаем…
Я предполагаю, что командир экипажа — это как капитан на судне — верховная власть.
Формально. Командир поддерживает атмосферу — духовную, душевную — в коллективе. С ЦУПом общается каждый на равных. Понятно, что на каких-то официальных мероприятиях — предположим, экипаж станции должен обратиться к детям-победителям Олимпиады — первым слово берет командир. Это больше формальная роль, но важная.
Когда мы летали в прошлый раз, командир «Союза» Олег Котов был и командиром МКС, и вместе со мной выносил олимпийские флаги в открытый космос, мы с ним три выхода совершили. На самом деле командир станции — это командообразующая функция, командообразующее звено, которое говорит: «Ребята, мы давно не собирались и не ели вместе».
Что самое сложное в космосе?
У всех по-разному. Некоторым очень тяжело привыкнуть к невесомости. У меня первый этап прошел просто суперлегко, такое впечатление, что я родился и вырос там, как рыба в воде — никаких вестибулярных расстройств, все прекрасно. А вот спуск для меня оказался самым тяжелым.
То есть это на самом деле очень тяжелое испытание?
За полгода из-за мышечной атрофии перегрузка субъективно переносится в два раза хуже.
Но что ты чувствуешь?
Когда я рассказываю студентам и школьникам, то говорю: «Дети, вы знаете такое выражение — плющит и колбасит? Вот это оно». То есть ты не можешь вдохнуть и, совершив ошибку, выдохнув, поднять грудь ты не можешь. В какой-то момент я закрыл глаза, потому, что понял — перегрузка навалилась так, что уже тяжело. Тяжело просто смотреть.
При этом мой командир (правда, для него был уже третий полет) — опытный, спокойный, грамотный — продолжал четко декламировать: «Идет спуск, перегрузка такая-то». Потом, в сердцах: «Куда ж ты рулишь, дурак?» Компьютер корабля немножко переборщил, и перегрузка задралась. Но он все говорил через силу, было достаточно тяжело. Единственное, что радовало, — мы летим домой.
То есть это все-таки не то же самое, что рутинный полет на самолете?
Космос вообще ошибок не прощает. Система все усложняется, но и риски возрастают. Толщина стенки станции — полтора миллиметра. Риск внештатной ситуации в связи со сложной техникой достаточно большой. Сама станция — огромная машина, в которой постоянно что-то может сломаться.
У нас в ходе полета в какой-то момент обесточилось примерно 80 процентов станции. Кое-где остались лампочки, некоторые компьютеры живые. Мы вышли на связь с Землей, говорим: Хьюстон, у нас проблема. Хьюстон говорит: идите спать! Как спать?! Сели, попили чай, пообсуждали, расползлись кое-как.
А поломка была на американском сегменте. Хьюстон аварийно выдернул из отпусков всех астронавтов, загнал их под воду, они отработали, и на следующее утро, когда мы встали, на компьютере висел план нашей работы. Мы бросили все и начали готовить американцев к выходу в открытый космос, к срочному ремонту. Альтернатива одна: вернуться домой и бросить станцию.
Кстати, об этом. Был такой фильм, где Брюс Уиллис, в очередной раз спасая Землю, прилетает на станцию, а там русский мужик в ушанке, с молотком, все чинит, и все хорошо. У нас обиделись патриоты, а вот вам этот эпизод был обиден?
Абсолютно нет — потому что примерно так оно и происходит. Американцы, посмотрев на русских, ввели у себя курс ремонта. У них система была такая. Они привыкли летать на «Шаттлах». Там что-то сломалось — а, ну и ладно, блочок поменяли, вернулись на Землю, блочок заменили, да и «Шаттл» поменяли.
У русских такой возможности нет. У нас маленький «Союз», много груза не навернешь, но все ремонтнопригодно. И космонавт, если что-то сломается, засучивает рукава, берет пассатижи, и с помощью кувалды и чьей-то матери начинает все чинить. Американцы понимают, что эта система работает надежнее, чем постоянно поставлять блоки — особенно сейчас, когда они потеряли все свои корабли. Они, конечно, в 2018-2019 году снова полетят, но учат своих астронавтов чинить.
Пока это выглядит смешно. Астронавт крепит себе на плечо камеру и в режиме прямого эфира что-то крутит. Ему Земля говорит: так, крути эту гайку, не туда крути, возьми ключ на 12, ты взял не на 12, а на 14 — ах да, а где это можно посмотреть? Человек реально не умеет чинить. И вот так все происходит. Они многое на самом деле взяли у российской системы, из грандиознейшего опыта на станции «Мир». Слава богу, мы сейчас тоже многому учимся у них.
Вы третий космонавт в моей жизни. Первым был Алексей Леонов. Много лет назад я спросил у него: «А что все-таки было самым удивительным, самым прекрасным?». Он ответил, что это был момент возвращения в огненном шаре, в костре…
Это действительно здорово. И вот примерно так [держит ладонь вертикально] располагается иллюминатор, и краем глаза ты видишь, как плазма течет с той стороны стекла. Причем у нас спуск начался в 4:20-4:30, еще видно самое-самое начало рассвета. Очень красиво. Только появилось солнышко, причем не диском, а только лучами — и вот эта плазма. Красота! Когда-то, кстати, я рассказывал что-то своей маме, и она спросила: «Сергей, а где вы летите?» И я снял с ноутбука маленькую веб-камеру, показал в иллюминатор: вот, смотри, Куба, вот Карибские острова. Для моей мамы, наверное, это было самое большое впечатление — когда своими глазами посмотрела сверху, увидела то, что видит сын.