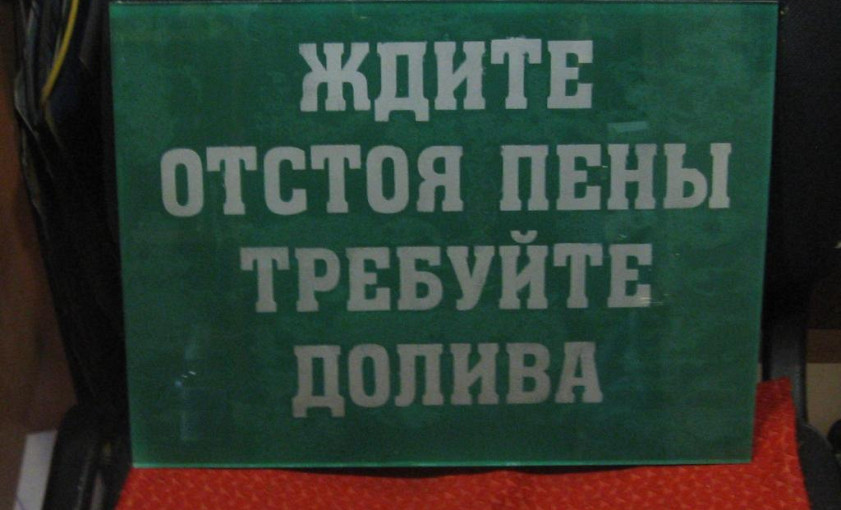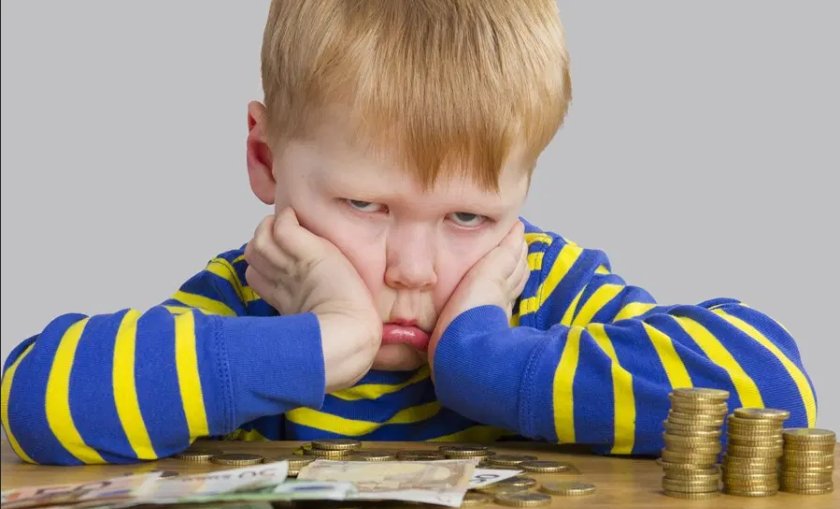"Ответить на этот вопрос нелегко, поскольку Латвия уже пережила очень обширную и оцениваемую в основном отрицательно волну миграции во времена оккупации, последствия чего до сих пор не преодолены. Бесконечные дискуссии по языковым вопросам - это лишь одно из проявлений этих последствий. Общество во многом до сих пор расколото по признаку этнического происхождения (де-факто сформировалось двухобщинное общество), поэтому отношение к новым мигрантам из стран за пределами Европы воспринимается с сильным подозрением. Это подозрение усиливается благодаря опыту многих западных стран, где мигрантские общины сосредоточились на определённых территориях и постепенно захватывают там власть", - описывает ситуацию автор.
На любые возражения, что в Латвии эти мигранты не создают реальных проблем, не формируют никаких преступных структур и не уличены в серьёзных преступлениях, звучит оговорка - это пока, вы посмотрите, что происходит в Швеции, Бельгии и во Франции.
"Таков, с позволения сказать, эмоциональный фон проблемы. Давайте сознательно будем избегать таких слов, как "расизм", "ксенофобия" и т.п., поскольку навешивание этих ярлыков уводит в идеологически заряженное русло, когда дискуссии исходят не из того, как в реальности есть, а из того, как должно быть. Или как бы мне хотелось", - призывает Латковскис.
Речь о якобы чрезмерной "любви" общества Швеции, Бельгии и Франции к приезжим - это чисто идеологическое рассуждение. Если бы эти мигранты отнимали рабочие места у местных, никакой "любви" не было бы и в помине, что бы там ни рассказывали в тамошних университетах профессора с левым уклоном. Условная "любовь" возникает потому лишь, что эти мигранты делают то, чего местные "профессора" никогда бы не делали: убирают мусор, развозят еду, кладут брусчатку на пешеходных улицах, собирают клубнику и т.п. То есть не конкурируют с основным населением.
Является ли миграция неизбежной?
По данным УДГМ, в 2024 году в Латвии было выдано 15 тысяч 558 временных ВНЖ иностранным рабочим. Много это или мало? Примерно на столько же сокращается численность населения Латвии в год.
О том, что с ростом уровня благосостояния в Латвии мы тоже не сможем избежать привлечения мигрантов, уже с начала века предупреждали почти все латвийские экономисты. Аргумент прост и логичен. Его не смогла избежать ни одна развитая страна Запада. Без исключения.
Это наши экономисты говорили ещё до массового оттока нашей рабочей силы на Запад, который начался вскоре после вступления в ЕС, особенно после кризиса 2008-2010 годов.
После того, как из Латвии утекло не менее 100 тысяч человек трудоспособного и, что особенно важно, фертильного возраста (некоторые источники приводят вдвое большее число), вопрос рабочей силы обострился ещё больше. Работников не хватает почти во всех отраслях народного хозяйства. И как тут быть?
Если руководствоваться "рекомендациями" из соцсетей, решение одно - запретить или хотя бы максимально ограничить миграцию. Как при этом решать проблему с рабочей силой? Элементарно, Ватсон. Надо платить достойную зарплату, тогда люди пойдут и будут работать. Второй вариант - ориентироваться на такой бизнес, где требуется мало работников. То есть с высокой добавленной стоимостью. Звучит красиво. На бумаге или на экране компьютера.
На практике какой зарплатой ты заманишь кого-нибудь из этих "советчиков" чистить хлев за 200 км от Риги? Увы, та малоквалифицированная рабочая сила в Латвии, которая непосредственно конкурирует с приезжими, проигрывает в конкурентной борьбе из-за чрезмерной зависимости от алкоголя. Любой латвийский бизнесмен, ищущий работников, скажет общеизвестное: хороший рабочий в Латвии уже где-то работает, а плохой даже при большой зарплате рано или поздно сорвётся в многодневный запой. Положиться на такого нельзя.
Хорошо, не надо нам выметателей навоза из хлева. Будем покупать молоко и мясо за границей. Превратим Латвию в страну, чья экономика основана исключительно на такой бизнес-модели, в которой удельный вес рабочей силы невелик, а добавленная стоимость высока. Чудесно. Но улицы-то кому-то всё равно надо чистить. И обед в офис, где создаётся "высокая добавленная стоимость", тоже должен кто-то привозить, как вошло в привычку в наши дни. Кровати в гостиницах тоже должен кто-то стелить и полы мыть. Кто же будет это делать?
Все эти воображаемые модели нежизнеспособны. Они работают только в головах людей, настроенных соответственно. Поэтому к делу надо подойти рационально, как можно меньше затрагивая всё, что может вызвать вспышки эмоций.
Прежде всего надо признать, что в ближайшие пару десятков лет от ввоза рабочей силы освободиться не удастся. Как бы нам того ни хотелось. Это касается не только малоквалифицированной рабсилы, но и специалистов средней (строительство) и высшей квалификации (ИТ).
Один из важных элементов - отделение желательной миграции от нежелательной. Практика показывает, что больше всего возражений в обществе пробуждают мигранты, не работающие ни в промышленности, ни в строительстве, ни в ИТ. Работающие в сфере обслуживания или имеющие статус самозанятых лиц.
Из опыта других стран видно, что больше всего проблем создают полулегальные мигранты, которые занимаются не наёмным трудом, а "бизнесом". То есть чем-нибудь торгуют. Заставить их работать на заводе или стройке очень трудно - поэтому в Африке так неразвита промышленность. Все хотят быть "бизнесменами" и работать только на себя, 98% "рабочего времени" сидя и скучая под условной пальмой.
Именно таких лжебизнесменов, которые в определённых обстоятельствах легко могут переквалифицироваться в торговцев наркотиками или живым товаром, нужно особенно остерегаться. К счастью, у Латвии есть существенный инструмент влияния, которого нет у крупных стран. Это закон о госязыке.
Любой работник сферы обслуживания должен владеть госязыком хотя бы на уровне B1. Потенциальные нарушители общественного порядка обычно не любят себя утруждать и предпочитают идти самым лёгким путём. Осваивать язык малочисленного народа, чтобы интегрироваться в местное общество, они просто не хотят. Особенно если в быту можно обойтись одним из "больших" языков. Поэтому требование последовательно соблюдать закон о госязыке может стать очень эффективным инструментом по ограничению нежелательной миграции.
Отдельный разговор - о студентах. В 2024/25 учебном году к учёбе в латвийских вузах по бумагам поступили 11 тысяч 542 иностранных студента, в том числе 72% - из третьих стран (не из ЕС). Есть подозрение, что не все они реально учатся. Возможно, часть их ездит по тротуарам с зелёными или синими коробами за спиной.
Не секрет, что для некоторых вузов торговля образованием (неофициально - торговля ВНЖ) стала своего рода бизнесом. Главное - взять плату за обучение, дальнейшее нас уже не интересует. То же касается всяких агентств, набивших руку на "обходе системы" и помогающих клиентам получить визу, чтобы их приняли в латвийский вуз.
До сих пор Минобрнауки удивительным образом смотрело на эту проблему сквозь пальцы. Все всё знают, но делают вид, что так и должно быть. Объективности ради, в этом году министерство признало, что есть "известные недочёты", и обещает до начала 2027 учебного года "навести порядок в приёме иностранных студентов, в том числе усовершенствовать нормативное урегулирование".
На 3 октября следующего года назначены выборы в Сейм. А может быть, общество могло бы потребовать от главы Минобрнауки Даце Мелбарде ускорить "усовершенствование нормативного урегулирования"? Иначе пройдут выборы, и снова торговцы образованием пролоббируют для мигрантов из третьего мира, чтобы всё осталось по-старому.