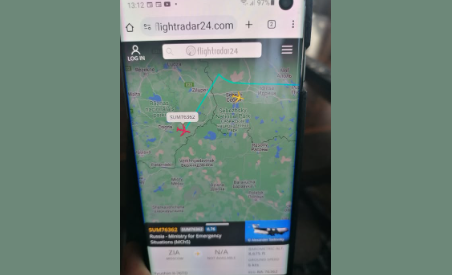"Политика интеграции в Латвии провалилась. Если бы это было не так, то этнический фактор не был таким явным ни на муниципальных, ни на парламентских выборах, - пишет Виктор Авотиньш в "Неаткариге".
Если бы то был не так, то в стране через четверть века после восстановления независимости не было бы четверти миллиона неграждан (речь не об автоматическом присвоении гражданства, а именно об адекватной натурализационной, интеграционной политике, приносящей результат с годами);
споры о том, в какой детский сад или какую школу отправлять детей, не вспыхивали бы ежедневно и не воспринимались как политическая позиция;
лидеры нацменьшинств постоянно активно дискутировали бы с властью, с латышскими организациями о качестве взаимоотношений и их дальнейшем развитии (такие дискуссии велись перед знаменитым языковым референдумом, после которого правящие политики, видимо, решили, что с 25%, голосовавшими за второй госязык нечего церемониться, их можно игнорировать и навязать им свои правила);
СМИ не были бы так сильно расколоты; была бы преодолена неспособность латвийских СМИ конкурировать (и в плане содержания, и по отношению, и в ментальном смысле) с дезинформацией, распускаемой в Латвии российскими СМИ;
не приходилось бы удивляться диспропорции этнического представительства в госуправлении… И так далее, и тому подобное.
Почему провалилась интеграционная политика? Желание свысока поисправлять исторические неурядицы были так сильны, что отодвинули идею для начала найти подходящие инструменты, чтоб эта политика стала эффективной по своей сути.
Например, не было понято, воспринято и адекватно введено в определения и практику интеграционной политики то, о чем пишет Алвис Херманис в своем Дневнике: «… у каждого языка, у каждого народа есть что-то герметичное. Куда со стороны вламываться нельзя. Не помогают ни знания, ни прожитые в этой среде годы. Есть какая-то территория, куда другим вход просто не запланирован. И все». Я не могу определить эту герметичность, но я полностью согласен с Алвисом Херманисом, потому что сам это чувствовал, учась в Институте гражданской авиации.
Наверно, мы были отборными ребятами, и вторжения в герметичность ни к чукчам, ни к латышам, ни к хакасам, ни к русским не было. Наоборот, когда я что-то делал не так, преподаватели и одногруппники говорили мне, что «от латыша такого не ждали».
Мы были сплоченными, мы читали отпечатанные на машинке труды диссидентов и не знали стукачества, мы старались, чтобы остались в институте и получили дипломы даже те, кто выступали против событий в Чехословакии или высказывали нечто иное в таком же духе. Если бы понимали и уважали то, о чем написал Алвис Херманис, то в латвийской интеграционной политике, политике школ на уровне указаний властей, на мой взгляд, не трудно было бы достичь того, чтобы все нации приняли даже то, чего хочет Нацблок.
А что это за интеграционная политика, если общество ради нормальных человеческих отношений вынуждено действовать, практически противореча ей. Я считаю, что
тот факт, что сейчас на латышском говорят 90% представителей нацменьшинств, а в 1989 году – только 20%, целиком и полностью заслуга нашего естественного человеческого общения, а не интеграционной политики.
А сама политика время от времени пытается убедить меня, что даже преамбула к Сатверсме, которая укрепила, яснее ясного определила статус латышского языка в стране, нужна нам не для стабильности, не для расцвета и роста, даже не для лечения своих комплексов, а для их культивирования. Иными словами, мне бы хотелось, чтобы интеграционная политика строилась на честной, всесторонней и профессиональной оценке настоящего, а не только на (разумном) определении желаемого".