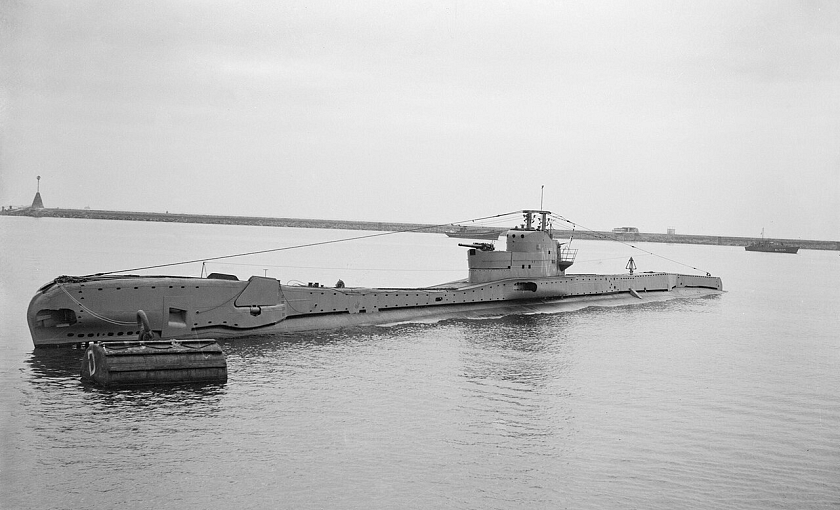ПТСР испытывают участники боевых действий в разных армиях и разных странах. Но в России проблема усугубляется тем, что в армии царит высокий уровень жестокости и насилия, а среди вернувшихся с войны много бывших уголовников, наемников ЧВК «Вагнер». Это уже привело к росту преступности и насилия в стране.
Русская служба Би-би-си рассказывает, как психологи пытаются работать с российскими участниками войны в Украине и почему терпят неудачу.
«Сделать их менее опасными»
Летом 2023 года медицинский психолог Яна (имя изменено по просьбе героини) устроилась в только что открывшийся кабинет медико-психологического консультирования (КМПК) в больнице одного из городов-миллионников.
Такие кабинеты начали открывать в разных городах России по приказу Минздрава с июля 2023 года. По задумке ведомства, туда прежде всего должны были обращаться вернувшиеся с войны, чтобы оперативно получить психологическую поддержку. Конечно, принимают психологи в этих кабинетах и рядовых граждан, но военные и их родственники могут обратиться туда за помощью без очереди.
Яна придерживается антивоенных взглядов, поэтому предполагала, что с российскими военными работать ей будет трудно. Но решила, что ее помощь будет полезна: «Я подумала, почему бы и нет? Они ведь опасные люди, а я смогу их сделать менее опасными». Правда, ее помощь оказалась не особо востребованной.
В больнице, где работает Яна, есть единая система медицинского учета. Врач может посмотреть, кого к нему направляют другие специалисты, анамнез пациента и его бэкграунд. Например, в карточке терапевт может написать, что к нему обратился вернувшийся с «СВО» (так в России официально называется война в Украине) человек с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). За полтора года, которые Яна работает в кабинете, терапевты направили к ней 17 военных. Ни один из них так и не пришел на прием.
Рецидив — вопрос времени
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Первый год с войны возвращались заключенные, которых активно вербовал с лета 2022-го основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Им обещали помилование со снятием судимости после полугодовой службы. По словам самого Пригожина, в ЧВК вступили 50 тыс. заключенных, 32 тыс. из них вернулись домой. В январе 2024 года (к этому моменту вербовкой занималось только Минобороны) стало известно, что теперь заключенных отправляют служить до конца войны.
После объявления мобилизации осенью 2022 года все военные контракты тоже фактически стали бессрочными, а демобилизацию никто не объявлял. Расторгнуть контракт можно по нескольким причинам: если военный получил тяжелое ранение, достиг предельного возраста пребывания на военной службе или его лишили свободы за совершение уголовного преступления.
Вернувшиеся с фронта участники войны уже регулярно совершают преступления — от побоев и нанесения увечий до сексуализированного насилия и убийств. По подсчетам издания «Верстка» (внесено властями России в реестр «иноагентов»), за два с половиной года (с 24 февраля 2022 года и до конца августа 2024 года) в результате совершенных военными преступлений погибли 242 человека, еще 227 человек пострадали.
В феврале 2025 года сотрудник Уральского юридического института МВД России Вилли Маслов опубликовал исследование о «влиянии специальной военной операции на преступность в России». В статье говорится, что по сравнению с довоенными годами в стране выросла доля тяжких и особо тяжких преступлений.
По данным Центра психиатрии имени Бехтерева, у военнослужащих ПТСР проявляется в 3-11% случаев. Если человек получил серьезную травму или увечье, вероятность развития расстройства возрастает до 14-17%. В недавно опубликованной базе данных Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ говорится о 166 тыс. раненых пациентах госпиталей в России и аннексированном Крыму в период с января 2022-го по середину июня 2024 года.
Существует и мнение, что ПТСР в той или иной степени может страдать каждый оказавшийся на фронте. Сколько россиян сейчас воюют, точно неизвестно: в декабре 2023 года Владимир Путин говорил о том, что на фронте находятся 617 тыс. военных; еще 490 тыс. ушли воевать в 2024 году. При этом в июне этого года в администрации президента рассказали, что домой вернулись 137 тыс. участников войны.
Скорая психологическая помощь
За психологическую помощь комбатантам в России отвечают две структуры. Первая — государственные медицинские учреждения, то есть поликлиники и больницы, где и открыли кабинеты психологической и психотерапевтической поддержки. Они были созданы для повышения доступности психологической помощи и «снижения стигматизации деятельности психиатрической службы». Сейчас работают 2,7 тыс. таких специализированных кабинетов. С 2024 года бесплатная психологическая помощь включена в программу обязательного медицинского страхования.
Вторая структура — государственный фонд «Защитники Отечества», основанный по указу Владимира Путина в апреле 2023 года. Руководит фондом замминистра обороны и предполагаемая родственница российского президента Анна Цивилева. В «Защитниках» обещают комплексную поддержку — от помощи с оформлением выплат и получением удостоверения ветерана до медицинской реабилитации.
Работает система оказания психологической помощи и в больницах, и в фонде по сути одинаково: человек приходит на первичную консультацию, ему проводят диагностику, в зависимости от состояния могут направить к психиатру, психотерапевту или назначить повторный прием у психолога. То есть главная цель — стабилизировать состояние человека и направить его на дальнейшее лечение. По словам Яны, кабинет задумывался как скорая помощь.
«Человек приходит, и мы работаем с ним в кризисном состоянии. Когда из кризиса мы его вывели, он пошел уже продолжать лечение, — рассказывает она. — Какое наполнение у кабинета будет, это каждая больница решает сама. Не все больницы смогли позволить себе открыть кабинеты. У нас в городе, по-моему, кроме нашей, [кабинеты открыли] еще две или три [больницы]. В некоторые тяжело попасть, там запись на полтора месяца вперед, потому что у них нет возможности нанять [психолога] на полную ставку».
С июня 2023-го по январь 2024 года, следует из отчета Минздрава, специалисты «Защитников Отечества» оказали психологическую помощь более 10 тыс. военных и членам их семей. Статистики о том, скольким военнослужащим и их родственникам помогли в КМПК, Минздрав не предоставил. Би-би-си отправила запрос в ведомство и на момент публикации не получила ответа.
В 2024 году исследователи из РГПУ имени Герцена, психиатрической больницы имени Степанова-Скворцова и университета имени Мечникова опубликовали научную статью с анализом работы кабинетов в Петербурге. Они опросили психологов из 60 кабинетов (на тот момент в городе открыли 76) и прямо написали, что у значительной части опрошенных небольшой клинический опыт, к тому же многие прошли профессиональную переподготовку дистанционно в негосударственных учреждениях. Эти факторы, пришли к выводу авторы, «могут привести к снижению качества оказываемой помощи».
В системе кабинетов, говорится в исследовании, нет четкого регламента и понятной структуры работы, поэтому психологи действуют совершенно автономно, исходя из своей квалификации и используют разные подходы в работе (от когнитивно-поведенческой терапии до метафорических карт). Исследователи посчитали, что рекомендации пойти на прием к психиатру получили более 3,7 тыс. человек, и только 20 из них пришли на прием, а лечение прошли 18. То есть эффективность этой цепочки по психологической реабилитации небольшая.
«Они замолкают и смотрят, что скажешь»
Часть психологов придерживается антивоенных взглядов и попросту опасается работать с вернувшимися с фронта российскими военными. В июле 2024 года «Радио Свобода» (признано в России «иноагентом») поговорило с психологами и психиатрами об их работе. Специалисты пришли к выводу, что невозможно снизить степень травмированности участников войны и сделать их безопасными для общества.
В частности, потому что для эффективной терапии нужно убедить комбатантов принять свою ответственность и не возвращаться на войну. А психологов с антивоенной позицией будет мало, потому что не каждый сможет «перебороть свои ценности и быть готовым работать с убийцами по факту». Кроме того, они будут бояться, что на них напишут донос. Резонно предположить и обратное: сами военные остерегаются специалистов, которые могут их осудить.
«Ну, конечно, такие опасения существуют у всех нас. Каждый боится говорить с каждым. Если напороться на человека не твоих взглядов, это куда-то просочится, кто-то напишет донос, и твоя жизнь будет сломана, — сказала психолог Яна. — Я и в терапии с этим сталкивалась, когда люди что-то говорили [о войне], а потом смотрели на то, как ты отреагируешь, что ты скажешь. Это жутко. Они прямо замолкают и смотрят. Потому что всем [и пациентам, и психологам] страшно».
За время работы пациенты, которые с жаром поддерживают вторжение России в Украину, ей попадались редко. В основном позицию пришедших на терапию она характеризует как «среднюю»: люди устали от войны, сильно тревожатся и хотят, чтобы «все побыстрее стало хорошо».
Психолог Валерия (имя изменено по просьбе героини) полтора года работает в петербургском КМПК и тоже против войны. Она признает, что иметь дело с людьми провоенных взглядов бывает тяжело, но ей помогла первая встреча с комбатантом, пришедшим к ней на прием.
«Мне, честно, когда я в первый раз с военным столкнулась, было страшно. Я испытала страх — и за человека, и перед человеком, поскольку я до этого никогда с военными не сталкивалась. И с ПТСР для меня это тоже была первая встреча. Наверное, в первую очередь я боялась, что не смогу ему помочь, — вспоминает психолог. — Но он сам придерживался антивоенных взглядов, поэтому мы с ним в этом плане совпали. Боюсь про него много рассказывать, чтобы ему не навредить, но он бежал практически [с фронта]».
Опрошенные психологи сходятся в одном: вне зависимости от взглядов пациентов они стараются фокусироваться на проблемах, с которыми к ним обратились, а не на разногласиях, хотя это бывает трудно.
Они объясняют, что их главная задача — донести до человека, что ему нужна помощь, и убедить эту помощь принять. И это позиция не только антивоенно настроенных психологов. Бывшая сотрудница КМПК в Набережных Челнах Екатерина сказала , что поддерживает «специальную военную операцию» и при этом консультировала людей антивоенных взглядов.
«Ко мне, например, приходили люди, особенно в начале СВО. Они не участники боевых действий, не родственники. Тревога мирного населения, у нас это называется. Они открыто осуждали [войну]. Но мы работали с ними не с их позицией, мы работали с тем, чтобы уменьшить их тревогу, — объясняет Екатерина. — Человек обратился, ему психологически плохо. Мы эту проблему решаем — и все. Зачем мы будем его взгляды [менять]? Если для решения его проблемы психологической необходимо будет, чтобы он изменил свои взгляды, он в процессе работы сам их изменит. Но так бывает далеко не всегда».
«Тут я хороший — а там людей убивал»
Нежелание комбатантов обращаться за психологической помощью — одна из главных проблем реабилитации. Кабинеты медико-психологического консультирования власти открывали с надеждой на то, что люди, особенно военные, перестанут бояться психологов и психиатров, но этого не происходит.
Возможность получить психологическую поддержку анонсируют федеральные и региональные фонды, о необходимости лечиться от ПТСР, чтобы вернуться к мирной жизни, пишут Z-каналы, но все равно этого недостаточно. И с этой проблемой сталкиваются не только сотрудники государственных учреждений, но и психологи-волонтеры.
О том, что российские военные избегают психологической помощи, много писали в профильных СМИ. Причины — убежденность комбатантов в том, что они сами должны справиться с проблемой, недоверие к специалистам и страх того, что обращение к психиатру плохо скажется на военной карьере.
Психолог Татьяна год проработала в волонтерском проекте «Семейный очаг», организованном НКО «Лига матерей» в городе Ступино (в 2024 году НКО получила на этот проект президентский грант в размере 2,6 млн рублей, в 2025 году — 2,7 млн рублей). Сам проект ориентирован на помощь семьям мобилизованных и переселенцам. Но, по словам Татьяны, к работе с психологами привлекали и самих комбатантов.
Хотя изначально проект задумывался как дистанционный, Татьяна с другими волонтерами ездила в военные госпитали и реабилитационные центры, где проводила беседы с военными и оставляла информационные листовки об «Очаге».
По воспоминаниям Татьяны, «массированная реклама» «Очага для своих» была в соцсетях. Но все это не работало. «Большая часть комбатантов не хочет [идти к психологам]. У них несколько оправданий. [Либо]: „Да что ты поймешь? Тебя там не было." Либо: „Ты не выдержишь того, что я тебе расскажу". Они боятся говорить и не хотят об этом вспоминать. „Я лучше пойду с друзьями выпью, что об этом говорить? Я сам справлюсь. И не надо мне никаких психологов". Они даже не верят, что им могут помочь».
Военные возвращаются с фронта, где было четкое разделение на «своих» и «чужих». В гражданской жизни эти ориентиры теряются. «Обычную», довоенную жизнь, по словам Татьяны, комбатанты как будто не помнят или помнят очень смутно. «Они [вернувшиеся] очень болезненно реагируют на то, как люди тут живут, отдыхают, пока там „парни наши гибнут". На этой почве у них возникает неконтролируемая агрессия. У моей коллеги был клиент, который зашел в кафе и начал посетителей бить, потому что они там сидели и расслаблялись, — объясняет она. — Еще у них [военных] такой внутренний конфликт происходит: тут я хороший, добрый человек, а там [на фронте] я людей убивал».
Татьяна вспоминает, как работала с одним из командиров, который, чтобы поддерживать дисциплину, сажал своих подчиненных в яму и заставлял несколько дней сидеть без еды и воды. Вернувшись домой к своей семье, он не мог поверить, что все это делал, и спрашивал себя: «Господи, как я с этими детьми обращался?»
«Семейный очаг» закладывал на работу с каждым обратившимся десять сессий — за это время специалисты не пытались вылечить ПТСР, потому сделать это за такой срок невозможно. Главным приоритетом было вернуть человека в нормальное состояние: в первую очередь научить его общаться с людьми в «мирном окружении».
Но за весь год работы к Татьяне обратились всего восемь военных, весь курс завершили двое из них. Несколько сорвались и запили. «Они [комбатанты] еще в процессе работы говорили, что сегодня выпили, завтра выпьют. Даже один приходил на сессию нетрезвым. И кто возвращался, тот говорил: „Да, я последние две недели не вылезал из запоя". Насчет тех, кто не возвращался, мы просто предполагали такой же вариант развития событий».
Психолог Матвей (имя изменено по просьбе героя) работает в наркологической больнице одного из регионов России. Он рассказал , что он и его коллеги не сомневаются в том, что койки в стационаре больницы будут забиты военными, которые будут бороться с симптомами ПТСР с помощью алкоголя. В наркологической больнице специалисты, учитывая профиль, не работают исключительно с ПТСР, а в первую очередь лечат зависимости. Но часто посттравматическое стрессовое расстройство и злоупотребление психоактивными веществами идут рука об руку.
В методических рекомендациях Центра имени Бехтерева говорится о том, что у лиц, переживших тяжелое травматическое событие, высокий риск злоупотребления алкоголем. В 2024 году процент военных, обратившихся в НМИЦ ПН им. В. П. Сербского Минздрава за помощью в лечении зависимостей, вырос до 10% от общего числа. Согласно исследованиям американских психиатров, ветеранам с зависимостью от психоактивных веществ диагностировали ПТСР в три-четыре раза чаще, чем ветеранам без склонности к зависимостям. А у 63% ветеранов Афганистана и Ирака, употреблявших алкоголь и наркотики, были и симптомы ПТСР.
Матвей называет работу психолога в стационаре «паллиативной помощью», потому что повлиять на что-то психолог вряд ли может. Пациент проводит в больнице максимум две недели: за это время невозможно провести качественную терапию по работе с посттравматическим расстройством.
Например, когнитивно-процессуальная терапия, которая тоже считается эффективной для лечения ПТСР, по протоколу требует 12 сессий. Он рассказывает, что с одним комбатантом ему все же удалось провести успешную работу за пять сессий, но отмечает, что ему попался «идеальный пациент», который не только был готов работать с психотерапевтом, но и посещал мероприятия для участников «СВО», где учился налаживать общение с другими людьми.
Матвей сомневается, что большинство военных будут самостоятельно обращаться за помощью и ответственно ходить на встречи с психологом, а без этого ни о какой эффективной терапии в кабинетах КМПК и фонде «Защитники Отечества» не может быть и речи.
«Лечение ПТСР я вижу как добровольно-принудительное, — рассуждает Матвей. — Это особенности и ПТСР, и алкоголизма с наркоманией. Пациенты наши не очень хотят лечиться. Они понимают, возможно, что что-то не так. Но эта проблема настолько страшная и травмирующая, и болезненная, что прикасаться к ней не хочется. Есть такой человеческий феномен — анозогнозия, то есть отрицание болезни. Оно совершенно точно есть у наших пациентов и совершенно точно есть у комбатантов. Все об этом знают и все об этом говорят, что они [военные] не обращаются [к психологам]».
Сделать психологическую помощь обязательной для военных Владимир Путин предлагал еще в начале 2024 года, но решение обращаться к психологам или нет военные все еще могут принимать добровольно.
«Не все себе обучение могут позволить»
Другая проблема — это дефицит психологов. Ее признал, например, министр здравоохранения Михаил Мурашко. Правда, сколько именно психологов не хватает, чиновники сказать затрудняются.
В России деятельность психологов пока не лицензируется и единого реестра специалистов нет. Поэтому существуют лишь примерные оценки: по одним данным, количество специалистов по психологическому консультированию выросло до 57,7 тыс., по другим, их от 86 до 105 тыс. По статистике ВОЗ, в России на 100 000 человек приходится всего лишь четыре или пять психологов. Согласно отчетам Росстата от 2023 года, в России работали почти 22 тыс. психиатров. Хуже всего дела обстоят с психотерапевтами: по официальным данным Минздрава, их только 1250.
Недостаток специалистов есть и в «Защитниках Отечества»: год назад Цивилева в интервью «Ведомостям» говорила, что фонду не хватает медицинских психологов — то есть тех, кто непосредственно работает с психическими и психосоматическими расстройствами. Нехватку подтверждают и сами сотрудники фонда в разговоре с журналистами.
В государственных структурах с психологами дела обстоят сложно, так как туда не может устроиться любой желающий. Согласно правилам, утвержденным Минздравом, в кабинетах психологической помощи должен находиться сотрудник, получивший базовое психологическое образование по специальности «Психология», либо человек с дипломом психолога, прошедший переподготовку по клинической психологии. В обоих случаях стаж специалиста должен составлять не менее пяти лет. В фонде «Защитники Отечества» на работу тоже берут только с образованием по клинической психологии.
Чтобы бороться с дефицитом кадров, Минздрав в 2023 году утвердил программу переподготовки по специальностям «психиатрия» и «психотерапия». Согласно ей, врачи общей практики, неврологи, эндокринологи и педиатры смогут получить новую специальность за 720 часов (около пяти месяцев), для более узких специалистов программа рассчитана на 432 часа. Переучившиеся врачи смогут ставить диагнозы и участвовать в медицинской реабилитации. Таким образом, Минздрав и готовится к росту пациентов с ПТСР.
Психологи и сами ищут программы повышения квалификации. Сейчас в интернете можно найти много курсов по психологии на эту тему. В основном, все они дистанционные: есть совсем короткие от 6 тыс. рублей за 36 часов до 30-40 тыс. за более расширенный курс в 72 часа.
«Я, например, часто езжу в другие города на обучение, — рассказал психолог Екатерина, которая работала в кабинете медико-психологического консультирования в одной из больниц в Набережных Челнах. — Не все могут себе это позволить. Даже если бы эти обучения были бесплатными… Из Набережных Челнов в Москву [поехать] нужны деньги на проезд, это надо там [на что-то] жить. Соответственно, это толком никто не оплачивает. Даже если поликлиника и дает командировочные, вы представляете, это же очень мало получается».
Проблемой с образованием психологов озаботились и российские политики. В мае 2025 года партия «Новые люди», сославшись на нехватку психологов и возросший уровень насильственных преступлений, совершенных военными, предложила запустить федеральную программу дообучения специалистов «по работе с вернувшимися с СВО». Обучение предлагают организовать на базе Минздрава, но c акцентом на практику. Партия предлагает и создать отдельный реестр прошедших программу и «допущенных к работе с диагнозами, связанными с боевыми психотравмами».
«Я не смогла бы понять человека после войны»
Но даже если у психолога на руках есть нужное базовое и дополнительное образование, он все равно может быть не готов работать с комбатантами. Терапевт Тамара (имя изменено по просьбе героини) рассказала , что раньше работала в психологических службах и раздумывала о работе с ПТСР.
В прошлом году она прошла несколько курсов по лечению этого расстройства, как военного, так и классического. Но чем больше изучала эту тему, тем больше понимала, что не сможет работать с комбатантами, потому что для этого нужен «принципиально другой склад личности»: «Это должен быть не просто психолог, который умеет работать с этой темой, а изначально человек, который в нее вовлечен, еще с какой-то своей личной позиции. То есть я абсолютно точно не смогла бы достаточно понять человека после войны, чтобы ему оказать квалифицированную помощь».
Чтобы действительно эффективно работать с военными, специалисты должны посещать специализированные центры, где те лечатся — хотя бы в качестве наблюдателей, чтобы общаться с участниками боевых действий, рассуждает она.
В чатах психологов и психотерапевтов, которые изучила Русская служба Би-би-си, специалисты регулярно пишут о том, что хотят и готовы работать с комбатантами в госучреждениях и специализированных фондах. Однако устроиться в штат они не могут, потому что не подходят по критериям образования и там могут рассчитывать только на работу в качестве волонтера.
На фоне разговоров о том, кому следует и кому не следует работать с участниками войны, в России в очередной раз пытаются принять закон о регулировании психологической деятельности. Последний вариант внесли на рассмотрение в феврале этого года.
Согласно нему, до 1 января 2030 года психологи, у которых нет профильного высшего образования по психологии, должны его получить. Кроме того, по документу, специалист не сможет открыть частную практику, если у него нет трех лет реального трудового стажа. Эти требования приведут к резкому оттоку специалистов и большим расходам из государственного бюджета.
Поэтому одной из главных претензий к проекту было то, что власти хотят еще больше сократить число специалистов на и без того дефицитном рынке. А это только усугубит проблему психологической помощи военным.
Впрочем, опрошенные Би-би-си психологи считают, что система отбора и лицензирования в каком-то виде действительно нужна. Но не уверены, что закон в этом плане будет работать эффективно.
Один из авторов законопроекта, председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина резко ответила на критику: «Психологам с переподготовкой дается три года на получение высшего образования (именно профессионалам, а шарлатаны, которых развелось больше, чем одичалых собак, будут отсечены от людей к раненой и ранимой душой). Неужели целых три года не хватит как на помощь нашим героям, так и на получение высшего образования?».
Проект Останиной уже получил негативный отзыв правительства. Заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева 19 июня предоставила новый вариант проекта закона. А 25 июня стало известно еще и о третьем варианте: его автор — депутат от «Единой России» Анна Кузнецова, которая уже пыталась продвинуть законопроект три года назад.
Несмотря на все минусы, нельзя сказать, что система кабинетов психпомощи неэффективна. Опрошенные психологи считают свою работу важной и полезной.
Яна рассказывает, что пока наиболее продуктивная работа у нее сложилась с беженцами из Украины и приграничных районов России. Они тоже обращаются к ней с ПТСР и острой тревогой. За 10-12 сессий им удается вернуть чувство безопасности.
Работа с семьями военных идет тяжелее, но и им удается помогать, хотя приходят они на прием нечасто. По большей части она оказывает психологическую помощь обычным пациентам, которые приходят с жалобой на депрессию и другие ментальные расстройства: «На самом деле это круто, потому что не многим по карману психологическая помощь. И ко мне приходят люди, которые в ней реально нуждаются: люди с депрессией, тревогой, пенсионеры».
Психолог Валерия из Петербурга тоже говорит, что родственники военных приходят нечасто, а о том, что их родные воюют, упоминают вскользь. В основном, обращаются как раз пожилые пациенты. И ее это радует: Валерия хотела работать именно с ними, потому что пенсионеры чаще страдают от одиночества. Она говорит, что пришла работать в поликлинику, потому что ей хотелось помочь людям и привлекло то, что теперь психологическую помощь там оказывают бесплатно.
Бывшая сотрудница кабинета КМПК из Набережных Челнов Екатерина своей работой была довольна. К ней в кабинет часто приходили жены и матери военных, которым удавалось помочь. Кроме того, в поликлинике она читала лекции родственникам военных и рассказывала о том, как общаться с вернувшимися с фронта. Жены, по ее словам, часто жаловались на холодность и отстраненность мужа и не знали, как восстановить с ним контакт.
Психолог Татьяна считает, что должна быть пропаганда психологической помощи: «У меня есть мнение, что у нас нет единой организованной помощи по всей стране. Люди вынуждены искать волонтеров, как-то сами справляться, если они нацелены на работу с психологом».
«Я так и не поняла, как должна работать эта система. И никто не понял. Вот они [военные] пришли в отпуск. И что мне сделать за эти две встречи? Остаются люди, которых уже списали с армии: c эпилепсией, с тяжелыми ранениями. Как с ним сразу проводить психологическую работу? Ему сейчас не до этого. Если это [создание кабинетов] — подготовка к тому, как они все вернутся, когда все закончится, тогда да, понятно. А в течение [войны] как? Если они и в отпусках не приходят», — заключает Яна.