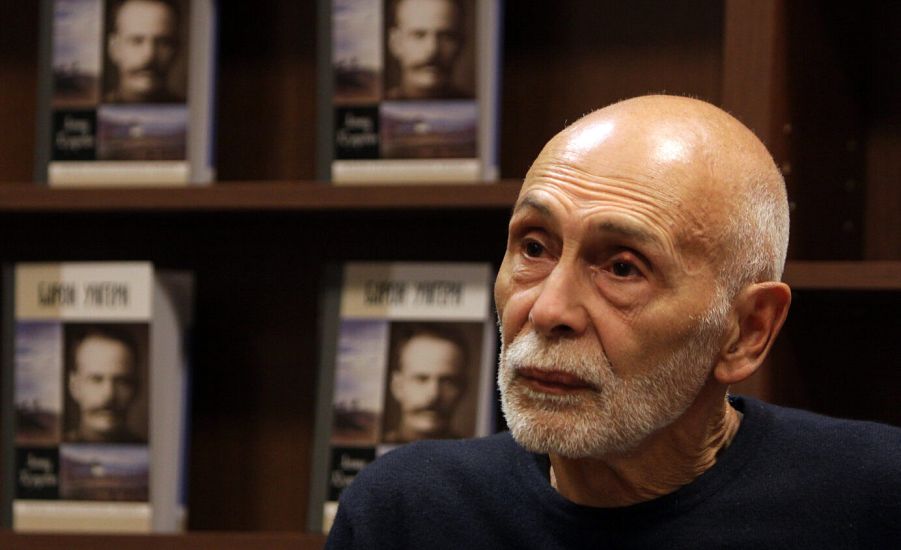—В 1970-х я жил в Перми и написал две краеведческие повести на материале уральской истории первой половины XIX века. В одной из них описывался реальный приезд Александра I в Пермь в 1824 году. До него ни один из русских монархов не бывал восточнее Казани. Про Александра c иронией говорили, что он больше времени проводит в возке, чем на троне. Над этим смеялись, сочиняли эпиграммы («Всю жизнь провел в дороге. И умер в Таганроге»), но на самом деле эти длительные и физически тяжелые в то время поездки заслуживают нашего уважения. Александр хотел видеть страну, которой он правит, а не судить о ней по чиновничьим отчетам.
Мне кажется, некоторая свойственная Александру печаль, его меланхолия, отчасти связаны с тем, что он лучше знал Россию, чем другие правители. Ведь он по ней постоянно ездил. Причем ездил не так, как Екатерина II, которая с роскошью и удобствами плыла по Волге до Казани или ездила в Крым с огромной свитой, со специально построенными для нее путевыми дворцами. Александр путешествовал с очень скромной свитой, иногда всего с несколькими спутниками. Бывали случаи, когда его не узнавали при встрече, потому что он был одет в шинель и в фуражку, как все. Этот необычный для самодержавного правителя аспект его личности меня всегда волновал.
— Александр хотел провести реформы, но в какой-то момент остановился. Как вам кажется, из-за слабости или в силу политической рациональности?
— Я не думаю, что это «осмысленная жертва». Отказ от вынашиваемых им в юности реформаторских планов, от либерализма первых лет царствования — это нормальная реакция взрослого человека на окружающие обстоятельства. Все мы с возрастом становимся более консервативны. Александру не без оснований стало казаться, что Россия не созрела для политических реформ, лучше отложить их на будущее. Это ни в коем случае не было порождено страхом утратить часть личной власти, что произошло бы при введении в стране конституционного правления. Отход от радикальных замыслов юношеской поры — не предательство Александром своих идеалов, а следствие более глубокого, как ему казалось, понимания основ тогдашней российской жизни. Прав он был или нет — не нам судить, но понять его можно.
У меня в романе «Филэллин», в самом конце, есть единственное серьезное отступление от исторической правды об Александре. Там его сердце оказывается захоронено в Греции. Из-за этой допущенной мной вольности я сильно переживал, но уже после того, как роман вышел, меня пригласили в Исторический музей, на встречу с профессиональными историками, специалистами по эпохе Александра. Они меня утешили, сказав, что этот выдуманный факт их не смущает. Почему? Потому что если бы Александр не умер в Таганроге, то, как следует из его писем, его разговоров, он бы непременно вмешался в Греческую войну за независимость. К этому все шло, но ему помешала внезапная смерть. Войну с Османской империей начал уже его младший брат, Николай I.
— Поговорим про Якутию. В этом году вы побывали в местах, через которые герой вашей книги «Зимняя дорога» Пепеляев шел последним походом на большевиков. Вы ездили в село Сасыл-Сысыы, где красный командир Строд оборонялся от белого генерала Пепеляева. Кажется совершенно фантастическим, что там остались здания, которые хранят следы от пуль. Какое впечатление это произвело на вас?
— Мы туда ехали долго, потому что это 200 километров от Якутска, из них только 40 километров — асфальт. А это было начало октября, мы дважды застревали в грязи, нас грейдер вытаскивал. Через реку Амгу нет мостов, и только благодаря тому, что начальник Ленского пароходства прочитал мою «Зимнюю дорогу», нам подогнали паром, чтобы мы могли переправиться к Сасыл-Сысыы. Пока паром к нам шел, я страшно продрог, потому что одет был совершенно не так, как следует одеваться в начале октября в Якутии.
Паром пришел уже в сумерках. Я был в отчаянии от того, что попаду в Сасыл-Сысыы в темноте и ничего толком не увижу, но в итоге все сложилось как нельзя лучше. Мне казалось, что все это ужасно, что мы приедем ночью и ничего не увидим. Когда наконец караван нашей экспедиции остановился возле этого абсолютно безлюдного, священного и в то же время проклятого места и фары поставленных в ряд двух джипов, уазика и микроавтобуса выхватили из тьмы припорошенную снегом желтую траву и черно-серые стены уцелевшего с 1920-х дома усадьбы Карманова, я понял, что судьба нарочно хранила меня от прибытия сюда при дневном свете. Ночь обострила все чувства, и впечатление стало незабываемым.
Здесь в феврале — марте 1923 года 284 красноармейца под командой Ивана Строда, питаясь только мороженой кониной и утоляя жажду снегом, оборонялись от четырехсот с лишним бойцов Сибирской добровольческой дружины генерала Анатолия Пепеляева и повстанцев-якутов. Дома были обнесены бруствером в половину человеческого роста. Его соорудили из балбах — брусков мерзлого навоза, которые якуты копят всю зиму, а весной используют как удобрение. После того, как осаждающие сосредоточенным пулеметным огнем начали разбивать эти стены, красноармейцы укрепили их насквозь промерзшими, окаменелыми трупами лошадей и телами погибших бойцов — своих и чужих.
Бойцы Строда закрепились в двух домах — летнем и зимнем с примыкавшим к нему хотоном (хлевом). Первый сохранился нетронутым со времен осады, в его стенах до сих пор видны отверстия от пуль. Второй в конце 1990-х сгорел и был восстановлен местными жителями. Они сделали это не по указке сверху, а по собственной инициативе. Новое здание, конечно, отличается от старого, хотя пройдет еще сколько-то лет, бревна почернеют, и мы забудем, что оно восстановлено. В Японии заново строят деревянные храмы каждые 150–200 лет, и никто не считает, что это новодел. Считается, что это аутентичная постройка.
Для здешних уроженцев Сасыл-Сысыы — не историко-революционный памятник, а что-то вроде святилища. Один молодой человек из расположенного неподалеку села Абага совершенно серьезно сказал мне, что в тихую погоду здесь ночами слышны выстрелы: мертвые продолжают сражаться друг с другом. По якутскому обычаю мы покормили тремя оладьями призрачный огонь в полуразрушенном камельке [очаге] и разговаривали шепотом. А когда над нами пролетели два отставших от стаи диких гуся, у моих якутских спутников это вызвало бурную радость. Это был знак, что обитающие здесь духи благосклонно отнеслись к посещению их вотчины.
В советское время реконструкторы устраивали в Сасыл-Сысыы имитацию обороны красноармейцев Строда от дружинников Пепеляева. А несколько дней назад я узнал, что студенты Северо-Восточного федерального университета — он находится в Якутске — в 2022 году собираются возродить эту традицию.
Едва ли не сильнее всего на меня подействовало отношение местных жителей к событиям столетней давности. Для них это «Илиада», а дома в Сасыл-Сысыы — остатки Трои. На местах здешних сражений установлены памятные кресты, в каждой деревне есть свои краеведы, которые этой темой занимаются. Я такого никогда нигде не видел.
— Почему у них сложился этот героический эпос? Они хорошо понимают, что здесь в какой-то момент истории сошлись глобальные силы? Или их скорее поражает (как нас всех поражает, если мы живем в каком-то городе и знаем, что вот в этом парке, например, орудовал маньяк) фактура? Все-таки когда на ограниченном пятачке посреди ледяной пустыни сталкиваются люди — нападают и обороняются, стреляют по стенам крепости из пулеметов, а эти стены состоят из навоза и смерзшихся трупов, — это само по себе впечатляет. Чего тут больше — эпохальности или фактуры?
— Мне кажется, нас всегда волнует, когда события мирового масштаба разворачиваются на крошечном пятачке какой-то территории. А тут еще и другое важно: человек не может быть равнодушен к тому, что охватившая всю территорию России страшная, фактически пятилетняя Гражданская война закончилась в нескольких километрах от его дома. Потом еще были бандиты, басмачи и прочее, но последние сражения Гражданской войны с участием регулярных белых и красных войск произошли именно здесь. То есть это место — непростое. Для каждого из нас важно жить в непростом месте — там, где бьется или когда-то бился пульс большой истории. Жителям Москвы и Петербурга не нужно ничего доказывать, они и так это знают, а там [в Якутии] людям требуются какие-то доказательства, подтверждения.
— Есть у вас ощущение, что вы сами играете теперь в истории Гражданской войны важную роль? Вам пишут письма родственники Пепеляева и потомки других участников войны — через вас проходит история буквальным образом. Внуки Строда и Пепеляева берут в руки памятную табличку, на которой написаны слова, найденные вами в архиве, принадлежащие обоим участникам тех сражений. И это одновременно акт примирения и свидетельство того, что Россия до сих пор существует в своей взаимосвязи с прошлым.
— Я давно свыкся с этой ролью. Вначале мне было странно, что что-то осуществляется через меня, а теперь привык. Без этого я был бы другим человеком и автором других книг. Ведь документальная книга никогда не может быть закончена. Роман ты можешь написать и больше к нему не возвращаться, а с документальной книгой так не получается. После того, как она издана, тебя находят потомки твоих героев или свидетелей описанных тобой событий и рассказывают тебе что-то новое. Ты провоцируешь работу профессиональных историков, которые тоже обнаруживают что-то, чего ты не знал. Жизнь всегда богаче наших фантазий о ней. Историческая реальность неисчерпаема, поэтому писатель-документалист должен смириться с печальной для него мыслью: его труд останется незавершенным, никогда ему не удастся поставить в своей книге последнюю точку.