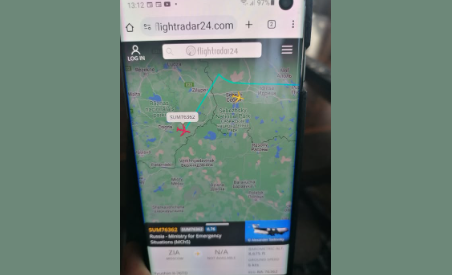Его перебросили к нам из Галиции в августе 1915 года. Немцы рвались через Курляндию к Риге, одну за другой перемалывая наспех сформированные дивизии 12–й армии ливнем артиллерийского огня, на который нечем было отвечать. "Снарядов!" — взывал штаб армии. "Рады бы, да нету!" — разводили руками в Ставке. Ну так нате вам хотя бы летчиков, авось на что–то сгодятся. Так 20–й авиаотряд надолго стал единственной авиационной частью, "глазами и ушами" Рижского укрепрайона.
Первые бои над Латвией
В отряде было 8 самолетов и всего 6 человек летного состава: есаул Ткачев, старший лейтенант (морское звание) Дыбовский, поручик Бржезовский, сотник Попов, добровольцы Штегельман и Качар. Последний и совершил первый боевой вылет отряда под Ригой — на разведку 16 августа 1915 года. А уже 17 августа Попов открыл "боевой счет", отбомбившись по колонне немецких грузовиков под Бауской. Через неделю командир отряда есаул Ткачев с наблюдателем поручиком Бржезовским вскрыли переброску колонны пехоты на маршруте Фридрихштадт — Нейгут (Яунелгава — Вецумниеки).
В смысле погоды то лето 1915 года было похоже на нынешнее, то бишь его не было. Описания полетов звучали так: "Поднявшись с аэродрома в пять часов вечера и пробив ряд облаков, набрали высоту 1 900 метров… Долететь удалось только до Бандена, где пробили еще три слоя облаков и попали в четвертый слой. В нем шли около двух минут и пробить не смогли. Видя, что это облако сплошное и толщиной не менее версты, пробить его пришлось отказаться".
Много нервов летчикам потрепали и ветры, порывы которых грозили превратить каждый вылет на полусгнивших от годовой боевой работы аэропланах в последний. "С первого момента отделения от земли, аппарат начало бросать порывами сильного встречного ветра, настолько мощными, что являлась опасность для жизни, тем более что в аппарате имелись три бомбы, лежащие на коленях у наблюдателя, которые приходилось поддерживать от падения только лишь левой рукой, так как правой нужно было держаться за "верхний кабан" ввиду возможного выпадения из аппарата", — докладывал Попов.
Но что делать? Летать все равно надо.
13 сентября Штегельман с Меляницким бомбили под Тукумсом скопление немецких лодок. "Четвертая же бомба была сброшена в г. Туккум на мост. На обратном пути встретили аэроплан противника, который не пожелал принять бой и спланировал в Туккум, — докладывали они. — Возвращаясь домой, не долетая Риги, в моторе что–то сломалось; мотор начал бить. Аппарат начало швырять и подбрасывать настолько сильно, что маузер, находящийся в кармане кабинки, вылетел, а аппарат круто пошел к земле, от тряски лопнул бак с бензином".
Сели аварийно, разбили самолет, но сами остались целы. И то хорошо — аппаратов в отряде, как вы уже знаете, было в тот момент больше, чем подготовленных летчиков.
"Исправно и надежно работал только один аппарат с мотором "Рон" сотника Попова, частые капризы моторов дозволяли выпускать не более двух аппаратов в день", — жалуется Ткачев. У него самого как–то в полете двигатель его "морана–парасоля" останавливался 10 раз.
27 сентября отряд понес первые потери. Немецкий "альбатрос" зашел Попову в спину у реки Миссе. Он имел преимущество в скорости и высоте, наши летчики отстреливались из маузера, но против синхронизированного пулемета немцев шансов у них не было. Попов пробовал оторваться от противника в пикировании, но в 10–20 метрах от земли, как показали очевидцы, самолет завалился в крен и рухнул на землю. Попова и его наблюдателя корнета Меляницкого похоронили на Рижском гарнизонном кладбище.
Невидимая опасность

Ткачев в кабине самолета
16 ноября погибли унтер–офицер Усань с подпоручиком Дыбовским (младшим братом старшего лейтенанта Дыбовского, переведенного в штаб армии) — самолет разбился на взлете. Через два дня унтер–офицер Штегельман вылетел на разведку с наблюдателем сотником Чепила. Как докладывали наземные части, летчики "вынуждены были по неизвестной причине планировать в тылу противника. Опустились на глазах наших артиллеристов возле немецкого расположения на реке Миссе, выскочили из аппарата и бросились к нашим окопам, но были схвачены немцами. Аппарат расстрелян нашей артиллерией". "Неизвестная причина" очевидна — мотор встал.
Вообще в те годы шанс погибнуть на взлете/посадке у летчиков был много выше, чем в бою. Фанерно–полотняные аэропланы были весьма капризными к условиям содержания машинами, а на фронте условия обеспечивать удавалось не всегда. От вибрации мотора и нагрузок при полете ослабевало натяжение расчалок, расходились клеевые швы, провисало полотно, расшатывались гвозди в каркасе, шарнирные соединения. Да и сырой климат не способствовал…
В итоге даже при очень тщательном уходе самолет за год эксплуатации превращался в "летающий гроб". А техосблуживание не было сильной стороной русской армии эпохи Первой мировой. Так что не прав генерал Снесарев, писавший в декабре 1916–го: "Сегодня разбирали дела летчиков и даже не спорили: шантрапа и врали. Самохвалов говорит, что идут туда никудышные, чтобы получить хорошее содержание и катать на автомобилях сестер милосердия… Из школы прапорщиков туда уходят наиболее слабые — вольнее, больше денег и фактически безопаснее". Люди, конечно, все разные, но вот в чем летчиков не упрекнуть, так это в стремлении быть там, где безопаснее, — когда каждый взлет мог стать последним.
Новогодний подарок немцам

Есаул Ткачев (в центре) вместе с авиаторами 20-го авиаотряда возле «морана-пасрасоля»
К ноябрю 1915–го в 20–м корпусном авиационном отряде осталось всего четыре "моран–парасоля". И несколько "свежих" пилотов, некоторым из которых, как писал Ткачев, "вследствии неопытности не было возможности давать ответственные задания". Да еще при такой погоде, когда "22 дня стояла сплошная низкая облачность, шел дождь и снег". Ветер был такой силы, что 17 ноября самолет поручика Калашникова на высоте 2 000 при работающем на полную мощность моторе за несколько минут так и не смог пролететь вперед более километра!
"Присутствие большой реки, моря, больших лесных пространств и болот создавали постоянную низкую облачность, туманы и осадки. Только в дни сильных ветров, которые наверху доходили до 22–28 метров в секунду, облака временами разрывались и являлась возможность при очень тяжелых условиях совершить ближайшие на фронте и в тылу противника разведки", — сообщал Ткачев в отчете за ноябрь. Из–за низких температур сгустившееся масло забивало маслопроводы, карбюраторы замерзали прямо в полете. И тем не менее отряд в этом месяце совершил 22 боевых вылета — столько же, сколько в сентябре.
А под новый, 1916 год экипажи унтер–офицера Власова (наблюдатель — поручик Мигай) и унтер–офицера Качара (наблюдатель — подпоручик Цветков) доставили новогодний подарок немцам: "Благодаря сильной мгле и облачности, а также и замерзшему компасу было очень трудно ориентироваться и приходилось по несколько раз кружиться под некоторыми пунктами, чтобы не заблудиться и идти по заданному маршруту". Тем не менее летчики успешно отбомбились по штабу в мызе Мерцендорф.
Немцев эти, казалось бы, комариные укусы нервировали, и они стягивали сюда свои самолеты, ставили зенитные пулеметы, выделяли специальные орудия для стрельбы по русским авиаторам. Этот свинец, выпущенный в небо, не попал по нашим окопам на переднем крае, а значит, не унес чьи–то жизни. Уже за это пехота могла сказать спасибо летчикам, не только за разведданные.
Активность отряда Ткачева была замечена командованием, тем более что на других участках фронта наши войска месяцами не видели своих самолетов в воздухе. А тут невооруженные машины летают в немыслимую погоду под носом у пулеметных "фоккеров" и "альбатросов". Есаула двинули на повышение.
Казак, оседлавший самолёт

Рига, какой ее видели летчики Ткачева в Первой мировой.
Казачье звание есаул соответствовало армейскому капитану. Ткачев — из кубанских казаков, окончил артиллерийское училище, служил в казачьей батарее. Но, увидев полеты аэропланов, заболел небом. В свободное от службы время выучился управлять самолетом и в октября 1913 года совершил рекордный перелет Киев — Одесса — Керчь — Екатеринодар. Наградой ему стали всероссийская известность, золотой знак "За наиболее выдающийся в России в 1913 году перелет" и должность командира 20–го корпусного авиаотряда с первых дней войны.
В первые же дни он и отличился. Под Сандомиром обнаружил австрийскую дивизию, густыми колоннами следовавшую к передовой. Австрийцы "угостили" незваного гостя шрапнелью, масляный бак оказался пробит, двигатель могло заклинить в любую секунду. Ткачев, вытянув ногу, сапогом закрыл пробоину и довел самолет до аэродрома, передав сведения. Так он стал первым пилотом — георгиевским кавалером.
А в декабре 1914 года Ткачев, вооруженный лишь табельным наганом, сумел отогнать от расположения наших войск немецкий самолет–разведчик.
По итогам первых двух лет войны выяснилось, что Ткачев не просто талантливый летчик и бесстрашный офицер, но и хороший организатор, вдумчивый теоретик. Он первым в русской авиации понял значение групповой тактики воздушного боя, необходимость взаимодействия с пехотой, значение радиосвязи для авиации.
Да, не все получалось. Горькие минуты пришлось пережить Ткачеву в 1916–м на Юго–Западном фронте, видя, как выдыхается Брусиловский прорыв в мясорубке на Стоходе. Немцы перебросили сюда из–под Вердена 2–ю боевую эскадру, и она буквально растерзала наши авиагруппы. Именно тогда будущий лучший ас Германии Манфред фон Рихтгофен написал обидные для русских слова: "Полеты на Востоке — полный праздник по сравнению с Западным фронтом".
А между тем авиация уже превращалась в силу, которая могла повлиять на исход операций. "Немцы летали эскадрильями в 20 и более аппаратов и совершенно не давали возможности нашим самолетам ни производить разведок, ни корректировать стрельбу тяжелой артиллерии, а о том, чтобы поднять привязные шары для наблюдений, и думать нельзя было", — жаловался Брусилов. А без корректировки огня не подавишь артиллерию противника, которая расстреляет поднявшиеся в атаку цепи пехоты.
Ткачев, создав 1–ю боевую истребительную авиагруппу, сумел осенью неимоверными усилиями выправить ситуацию. Но бои на земле к тому времени уже стихли… Как оказалось, это был последний неиспользованный шанс Российской империи в Первой мировой.
Битва за Крым

Дальше ему предстояло отрабатывать новые тактические приемы на своих, которые тогда были хуже чужих. В 1920–м генерал Ткачев был начальником авиации армии Врангеля в Крыму. В летних боях в Таврии его летчики на новейших английских "де хэвилендах" стали проклятием красной конницы.
Когда кавалерийский корпус Жлобы чуть не отрезал белых от Перекопа, Ткачев за сутки непрерывных бомбежек и штурмовок привел его в полное расстройство: взбесившиеся лошади мчались напролом через ограды, сбрасывали седоков, опрокидывали тачанки и артиллерийские повозки. Так впервые авиации удалось сорвать наступление противника в оперативном масштабе.
Соблазнительно предположить, что было бы, если бы именно Ткачев возглавил ВВС страны в 1920–1930–е. И создал бы авиацию, умеющую работать с наземными войсками, способную бомбо–штурмовыми ударами обламывать острия немецких танковых клиньев. Впрочем, чего уж там, если бы каким–то чудом он и оказался в Красной армии, то вряд ли бы уцелел в 1937–м…
Возвращение на родину
"Авиатор без дела не останется, но имейте в виду: мы должны поступить в авиацию такого государства, которое никогда не будет воевать с нашей Родиной", — напутствовал Ткачев своих летчиков после краха белого движения. Сам он осел Югославии, в 1927 году Врангель присвоил ему чин генерала от авиации (по аналогии с генералом от инфантерии, от кавалерии). Это был первый и последний человек с таким званием в русской армии — формально она тогда еще не была распущена. Еще теплилась надежда, что в СССР восстанет народ, что еще получится въехать в Первопрестольную на белом коне…
Некоторые сохраняли ее в 1941–м, но речь шла уже не о восстании народа, а о немцах. Ткачев тогда поучаствовал в формировании Русского корпуса в Югославии. Первоначально он создавался немецким командованием как бы для защиты русских эмигрантов, на которых партизаны коммуниста Тито начали настоящую охоту. Но постепенно корпус все больше втягивался в войну на стороне Германии — сначала против Тито, потом против четников Михайловича, а потом дошел черед и до боев с Красной армией, болгарскими и румынскими войсками, воевавшими теперь против Гитлера.
Вот только Ткачев уже в 1942–м демонстративно покинул ряды корпуса. "Не шкурные соображения, не политические убеждения, а только лишь чувство патриотизма толкнуло меня еще в 1917 году на антисоветский путь", — писал он в дневнике. Тогда выбор для него казался очевидным: большевики были предателями Родины, сдавшими Россию немцам. Сейчас выбор был не менее очевиден: большевики защищали Россию от немцев.
Когда Красная армия подходила к Белграду, Ткачев отказался эвакуироваться. Далее были визит СМЕРШа, "переезд" на Лубянку, следствие, приговор — 10 лет по 58–й статье. Жену Ткачева не тронули, и через несколько лет она выехала во Францию. В 1956 году, разыскав мужа, звала к себе в Париж. Ткачев, год назад вышедший из лагеря, отказался: "Мне слишком дорого далась родина, лучше ты ко мне переезжай".
Эхо Гражданской войны
Но куда "ко мне"? Он жил в полуподвальной комнатке в Краснодаре, бывшей столице Кубанского казачьего войска, работал в артели инвалидов–переплетчиков им. Чапаева за 27 рублей 60 копеек в месяц. Нищету скрашивал тонкий ручеек гонораров за заметки по истории русской авиации. Удалось издать книгу "Русский сокол", которую Ткачев написал о своем друге — знаменитом Петре Нестерове. Вообще победа в войне, полет Гагарина в космос, казалось, примирили Ткачева с советской властью — казалось, держава воскресла… Но не власть с ним.
После книги о Нестерове Ткачев засел за мемуары "Крылья России". Но рукопись была забракована цензурой, несмотря на переделки в политически "правильном" духе (хотя события касались исключительно предвоенных и военных перипетий 1911–1917 гг). "Трибунал осудил Ткачева за преступление против государства. Он отбыл положенный по суду срок наказания и получил конституционные права советского гражданина, но не получил моральной реабилитации. Публикацией своих воспоминаний он стремится к моральной реабилитации. Книгу публиковать не следует", — звучал вердикт Воениздата.
Тупость советской пропаганды ни в чем не проявилась так ярко, как в отказе от примирения и реабилитации белых. Конечно, не тех, кто, как Краснов и Туркул, выступил на стороне Гитлера. Но тех, кто, как Деникин и Ткачев, остался верен той России, за которую сам когда–то сражался в Первой мировой.
"А она, может, и вовсе не кончалась", — ответил как–то Шолохов на вопрос сына о дате окончания Гражданской войны. Да, может быть, — судя по страстям вокруг памятной доски в честь Колчака, которую попробовали было установить в Петербурге. "Колчаковцы в Сибири расстреливали людей", — объясняют противники установки свою позицию. Ну да, а их оппоненты, памятники вождю которых есть в каждом российском городе, — не расстреливали?
(Интересно, что и США идут по тому же пути, там летом прошла волна сноса монументов генералам Конфедерации. Вместо просуществовавшего полтора века консенсуса: "Все они были храбрыми американцами, разошедшимися в деталях", теперь насаждается непримиримый вариант "про белых свиней").
В этом плане хотя бы Ткачеву посмертно повезло. Мемуары Ткачева все–таки издали "к 90–летию Октябрьской революции", как он наверняка бы пошутил. А в 1995–м на доме № 82 на улице Шаумяна в Краснодаре главком российских ВВС генерал–полковник Дейнекин открыл мемориальную доску.

Шаумян и Ткачев на одной улице... кто бы мог раньше подумать.
Константин ГАЙВОРОНСКИЙ