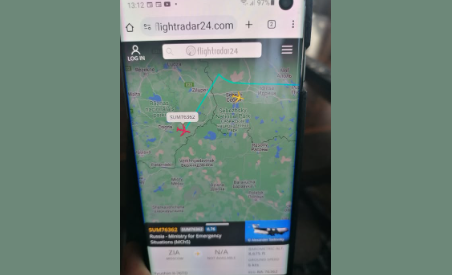В юбилей революции мы вступили с дефицитом общих мнений и, как свидетельствуют закрытые архивы, даже фактов о ней. Единственно, в чем солидарны представители всего спектра российской политики, что революция вещь страшная и, как следствие, саму память о ней нужно максимально обезвредить: не касаться острых тем, не сводить счеты, а постараться примирить всех со всеми.
Сделать это, впрочем, сложнее, чем кажется, потому что революционная волна еще жива в "войнах памяти", в столкновениях точек зрения на события недавнего прошлого. Как нам в таких условиях отмечать неудобную годовщину, разбирался "Огонек".
Когда заканчиваются революции?..
— Есть мнение, что революции продолжаются до тех пор, пока о них спорят историки, а также писатели, скульпторы и другие "волонтеры памяти",— уверен Александр Эткинд, историк, профессор Европейского университетского института во Флоренции, руководитель исследовательского проекта "Войны памяти: культурная динамика в Польше, России и Украине".— Скажем, Франсуа Фюре, один из лучших историков французской революции, по поводу ее двухсотлетия писал, что французская революция не закончилась, пока национального согласия в ее отношении не выработалось. Среди историков были попытки сформулировать "правило трех поколений" (что согласие между бывшими врагами достигается по прошествии трех поколений после катастрофы), но на деле никто не знает, сколько времени понадобится в конкретном случае.
— В какой-то момент у нового российского руководства вообще появилась мечта — забыть о революции совсем,— рассуждает Борис Колоницкий, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.— Испанский "Пакт забвения", принятый после смерти Франко в 1977 году и запрещавший ворошить прошлое обеим сторонам гражданской войны, в 1990-е годы у нас рассматривался как пример. Сегодня, впрочем, очевидно, что стратегия себя не оправдала: ни в самой Испании, ни в России. Пакт трещит по швам — потребность разобраться с прошлым сильнее.
Идея примирить всех со всеми, не вдаваясь в детали, "не сводя исторические счеты", как аккуратно заметили в Российском историческом обществе, которое в этом году отвечает за подготовку юбилейных мероприятий,— фактически объявление второго захода на тему "забвения". Революцию нужно обезвредить — вот, возможно, главный консенсус постсоветских российских элит, зафиксированный в политических пожеланиях к "архитекторам памяти".
На 80-летнюю годовщину Октября эти пожелания максимально просто и афористично выразил Борис Ельцин: вместо того чтобы отмечать 7 ноября, соотечественникам лучше бы квасить капусту, утеплять окна и готовиться к зиме. Будто ничего и не было. Борис Николаевич, может, того и не знал, но тактика умиротворения через замалчивание острых тем известна людям с древности.
Скажем, после Пелопонесской войны, разрушившей хрупкий мир между главными греческими полисами, афиняне придумали новую заповедь забвения, новое выражение — me mnesikakein (не помнить зло), запрещавшую под страхом наказания публично вспоминать страдания, причиненные одной стороной другой стороне. Страха наказания за одно лишь воспоминание современные россияне, похоже, не знают, но говорить о сложном и трагическом все равно не могут — отучены, не умеют, не пытались. В результате юбилей, в котором нечего праздновать, но нужно что-то важное отметить, по сей день вызывает общенациональный ступор, неспособность его переварить и найти "общее видение".
Сон памяти

Почему так? Виновата официальная политика?..
С одной стороны, революция в постсоветской России действительно никак не вписывалась в язык власти, оказавшись слишком богатой метафорой.
— Сначала, в 1990-е годы, Октябрь осуждали как момент рождения коммунизма (хотя коммунисты, конечно, продолжали тянуть грустную песню о начале новой эры),— полагает Николай Копосов, исследователь памяти, приглашенный профессор Университета Эмори.— Затем, уже в нулевые, революцию стали осуждать как акт национального предательства и рассказывать про Ленина, вернувшегося в Россию в пломбированном вагоне на куче германского золота. Она все время оказывалась какой-то неудобной темой для разговора...
И что еще хуже — темой неконтролируемой, антагонистической и даже экстремистской.
— Дело в том, что культурная политика и ее малая, но важная часть, политика памяти, менее централизованы, чем другие сферы внешней и внутренней политики,— уверяет Александр Эткинд.— Даже и при диктатуре они подчиняются воле правителя не в большей мере, чем наши сны подчиняются нашим желаниям. Художники, романисты, журналисты, кинорежиссеры и, наконец, реально работающие историки играют большую роль в культурной памяти, чем министры или директора институтов, какими бы ни были их бюджеты.
Поэтому то, что сегодня происходит в российской культурной памяти, определяется не только директивами власти и действиями госинституций, а, скажем, простым аспирантом, который сумел найти место гибели своего деда, или активистом, прибивающим стальную табличку там, откуда уводили людей на погибель 80 лет назад. Важную роль играют и другие активисты — те, что громят выставки или составляют рейтинги "русофобов". Здесь все живо, столкновения — необычайно интенсивны...
Легко вообразить, как неуютно в такой атмосфере глашатаям примирения и согласия! Да и сколько раз за прошедшие 25 лет революция уже заводила в тупик наших политиков. Стоило демократам 1990-х попытаться выбросить ее на обочину памяти, как 7 ноября ощетинилось маршами оппозиционеров-коммунистов, превративших свой главный праздник в мощный символ российской тоски по великодержавности, символ утраты великой страны. В 2000-е власть спохватилась и заговорила о великой стране сама.
По замечанию Ольги Малиновой, профессора НИУ ВШЭ, главного научного сотрудника ИНИОН РАН, Владимир Путин в 1999 году, выступая перед студентами МГУ еще в ранге председателя правительства, очень ясно выразил лейтмотив своего отношения к 1917-му на годы вперед: "Почему в стране произошла революция 1917 года, или, как ее еще называют, октябрьский переворот? Да потому, что было утрачено единство власти". Неудивительно, что в "доктрине тотальной преемственности", провозглашенной новым президентом, могло найтись место всему: и демократическому триколору, и царскому двуглавому орлу, и музыке советского гимна — но никогда бы не нашлось место революции, обрушившей "вертикаль".
Поэтому в середине 2000-х революция лишилась статуса "великой", став в календаре просто "Днем Октябрьской революции", а официальный выходной и вовсе был перенесен на 4 ноября — День народного единства. Наконец, на борьбу с революционной романтикой бросили тяжелую артиллерию 9 Мая: согласно официальной трактовке (озвученной президентом в 2012 году), 7 октября повлекло за собой "акт национального предательства" — поражение в Первой мировой, который большевики "искупили перед страной" только в ходе Великой Отечественной. А значит, 1917-му оставалась незавидная роль — оттенять своим ничтожеством величие 1945-го...
Впрочем, конца у этой истории до сих пор нет: пока обсуждался проект "единого учебника истории", революция снова обзавелась определением "великая", только чуть в видоизмененном варианте — как "Великая российская революция 1917-1921 годов", включив в себя заодно и весь период Гражданской войны. Внимание, которое политики, эксперты и журналисты уделяют наступившему юбилею, тоже противоречит идее "ничтожения даты". Все-таки что-то в ней было, на что не получается закрыть глаза.
Юбилей без конца

Но что? В каком смысле она — великая? Чем?
— Для нас характерна одна беда: отмечать и праздновать у нас синонимы,— считает Борис Колоницкий.— Реальный факт: в Ленинградской области "представительница молодого поколения" умудрилась как-то раз поздравлять блокадников с днем начала блокады, реагируя привычными способами на "красный день календаря". Получается, что мы всеми памятными датами хотим гордиться, а если не гордиться, то, мол, и вспоминать нечего.
Революцию, однако, не упростишь, а ее реальный смысл не сводим к четверостишью поздравительной открытки. И вот здесь начинаются проблемы: как может быть великим что-то, не дающее поводов для радости?
Существуют варианты ответа на этот вопрос для постколониальных стран, выстраивающих свою идентичность вокруг "мифа поражения": они отмечают трагические даты, в которые подвергались воздействию внешних сил, становились жертвами чужой воли, с тем чтобы потом сильнее чувствовать ценность своей свободы и независимости. Но, как полагает Ольга Малинова, эта тактика малоприменима для постимперий. "Миф поражения" слишком чужд господствующим здесь настроениям и порождает диковатые пародии на самого себя, как в конспирологических теориях, представляющих большевиков эдакими инопланетянами, приехавшими крушить российскую государственность.
Для стран вроде России остается почти непроторенная дорога — брать ответственность за случившееся на себя или, как пишет известный немецкий историк Алейда Ассман, "расширять горизонты памяти": заменять модель воспоминаний с "либо — либо", на "и, и" — чтобы революция получалась и великой по своему значению, и трагической по последствиям.
— Россия — страна с очень разнообразной историей, мы имеем опыт проработки трудного прошлого,— полагает Борис Колоницкий.— Скатываться до одномерных сценариев восприятия себя, до повальной героизации всего пережитого было бы интеллектуальной деградацией.
"Проработка трудного прошлого" отличается от залихватского примирения всех со всеми хотя бы потому, что не считает последнее таким уж простым. Когда не осталось живых свидетелей революции, можно размышлять о белых и красных абстрактно, но стоит связать последствия 1917 года со всем "советским проектом" (что напрашивается само собой, если выйти за рамки официальной риторики), и тема становится близкой и мучительно острой.
— Мы спокойно говорим о примирении, потому что мыслим единственной формой примирения врагов друг с другом, чтобы патриарх Кирилл облобызался с Зюгановым,— замечает Николай Копосов.— Оно, конечно, не сложно: получается, что мы миротворцы там, где примирять уже некого. А как насчет центральных вопросов исторической памяти, непосредственно вытекающих из 1917-го? Примирения сталинистов и антисталинистов? Или, скажем совсем крамольное, примирения нас с бандеровцами — раз уж с красными (или белыми) мир возможен? Где здесь грань?

Юбилей 1917-го — еще и юбилей без "дна", он только открывает галерею трудных образов прошлого
Эта грань отсутствует, потому любой разговор о революции всерьез — революционен.
— А новая российская история дополнительно запутана тем, что уже больше полувека, с 1956 года, советские и постсоветские правители все не могут определиться с тем, кто для них более симпатичен, палачи или жертвы предшествующего периода, и с кем они предпочитают себя идентифицировать,— полагает Александр Эткинд.— Но выбор этот придется сделать. Палачи часто становились жертвами, когда их пытали и убивали новые палачи. Все равно, разница между жертвами и палачами огромна, это самая большая разница, какая только есть в человеческом мире.
Юбилей 1917-го в этом смысле — еще и юбилей без "дна", он только открывает галерею трудных образов прошлого, о которых мы не любим вспоминать. Всем удобнее входить в историю страны с парадного крыльца — Дня Победы или, скажем, Дня народного единства. Но есть и черный ход, с другими датами — 1917-й, 1921-й, 1937-й. Что с ним делать? Заколотить его?
Столетие революции, если относиться к нему всерьез, могло бы стать поводом для поиска новых способов говорить и мыслить о неудобном прошлом. Множество гражданских инициатив, совпавших с юбилеем,— "Бессмертный барак", "Последний адрес", призывы к "национальному покаянию",— внезапно обнаружили, что голоса жертв еще сильны в российской политике памяти и могут на нее влиять.
— Эти голоса нужно учитывать,— полагает Борис Колоницкий.— Простой вопрос: чем человек, который знает о своих болезнях, отличается от того, который о них не знает? Он может лечиться. Нельзя представить ни революции, ни Гражданской войны, ни последующего террора без длительной культурной подготовки, вызревания этих явлений внутри самой России. Мы до революции создавали и поддерживали культуру конфликта, в которой "маленькие" или "холодные" гражданские войны были нормой, и до сих пор во многом являемся ее носителями. А теперь что? Теперь нам нужно вести "здоровый образ жизни", постоянно, ежегодно памятуя о своих болячках — и тут полезны все неудобные даты российской истории.
1917-й велик хотя бы тем, что дает очень яркое представление о том, какими мы можем быть. Не что может с нами случиться или не что могут с нами сделать, а какими мы, сами россияне, можем быть. И уже из этого представления рождается образ того, какими мы быть хотим (или не хотим), чтобы революция действительно закончилась.
Ольга Филина, "Огонек".