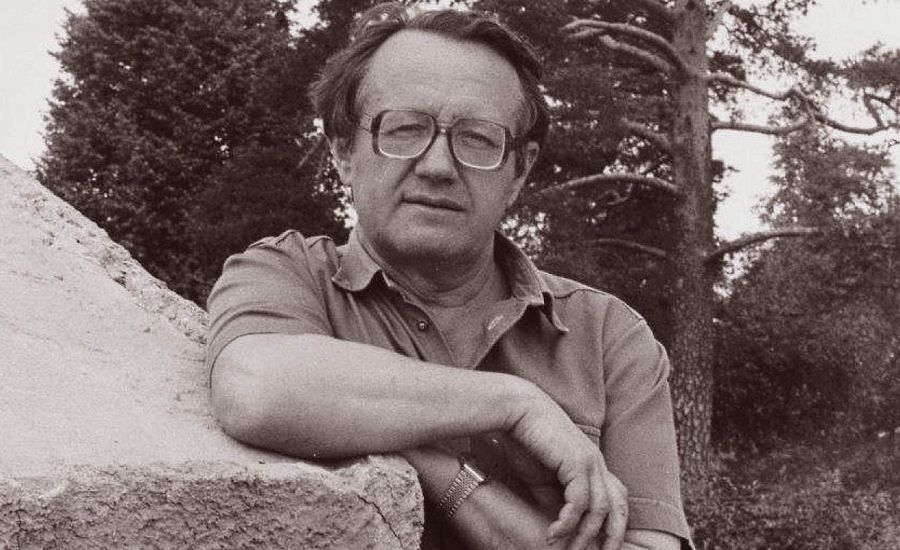Светлана Алексиевич, награждённая ещё в 2015 году, — прямая ученица и в некотором смысле наследница Адамовича, то есть олицетворение той самой Беларуси, которая сегодня после четвертьвековой летаргии заявила о себе. Адамович же, словно предчувствуя эту летаргию и видя и в Москве, и в Минске стремительную сдачу всего, что было ему дорого, — умер 26 сентября 1994 года от второго инфаркта.
Опыт, пережитый Адамовичем во время войны, не только стал его главной литературной темой, но определил всё его мировоззрение: этот опыт выходил из него медленно, как глубоко сидящий осколок, и при каждом новом унижении, запрете, конфликте немедленно резонировал. На войне трудно всем и рискуют все, но в партизанской войне есть особый трагизм — ты на своей земле, но во вражеском окружении, под вражеской властью. Думаю, именно военный опыт Адамовича заставил его с детства отказаться от гуманистической, уже привычной концепции человека: слишком много он видел расчеловечивания. Адамович никогда не верил, что в человеке торжествуют гуманизм, любовь, долг: он понимал и «радость ножа», как называлась первоначально его повесть «Каратели». На человеческую природу он смотрел не просто трезво, а пожалуй, что и неприязненно; это чувствовалось в нём всегда и даже раннюю его прозу отличало от советской.
Но в первые тридцать пять лет своей жизни он ничем об этом опыте не проговаривался: окончил горно-металлургический техникум в Лениногорске, потом филфак в Минске, потом защитил кандидатскую и докторскую, работал в Институте белорусской литературы имени Янки Купалы, издавал — в том числе и после первых прозаических публикаций — книги о Кузьме Чорном, Иване Мележе, преподавал белорусскую литературу в МГУ (откуда был изгнан за отказ подписать письмо против Синявского и Даниэля)... Он был филолог, академик Белорусской академии наук, и собственный переход к «сверхпрозе», как называл он свой жанр, был у него глубоко отрефлектирован и строго аргументирован. Просто на фоне шокирующих и необъяснимых его текстов семидесятых годов, на фоне «Хатынской повести», перевернувшей его жизнь, да и белорусскую литературу, на фоне сценария «Убейте Гитлера!», получившего в конце концов название «Иди и смотри», — эти первые 35 лет жизни Адамовича перестали что-то значить. От них остались два военных года, а гладкий образ советского литературоведа исчез, как не был.
2
Где в его первых романах — дилогии «Партизаны» — прятался тот Адамович, от текстов которого будут в ужасе отшатываться читатели семидесятых и восьмидесятых? Он отчётливо там виден, и главное — книга эта революционна уже потому, что легитимизировала в советской литературе граждан СССР, проживавших на оккупированных территориях. Это серьёзное завоевание; для обычной человеческой логики непостижимо — почему пребывание на оккупированных территориях служило тормозом в советской карьере, и не только в секретной или военной? Это был убойный компромат, хотя люди не выбирали территорию и не отвечали за то, что вся Белоруссия, например, оказалась под оккупацией полностью. Адамович первым — действительно первым со времён войны — рассказал о том, что некоторые ждали прихода немцев, некоторые с радостью шли в полицаи, а особенным шоком для Адамовича оказалось то, что среди полицаев было немало ударников, любимцев советской власти. То есть им было всё равно, в какие любимцы вырываться.
Адамович первым рассказал о психологическом самочувствии людей, перед которыми начали разверзаться бездны, и в ком — в односельчанах!
Одна из самых замалчиваемых послевоенных тем — советский коллаборационизм, о ней и сейчас говорят крайне неохотно. Но ведь Адамович это видел, он по личным детским воспоминаниям писал.
«Толя иногда начинает верить, что больничная стряпуха Анюта не сочиняла, когда рассказывала, как Жигоцкие встречали первых немцев:
— Вин попереду, а тая ступа за ним переваливается. Хлиб и силь на рушнику: «То вам от нас»».
(Этот рушник попал потом в «Иди и смотри»: валяется в грязи, растоптанный наступающими немцами.)
Адамович говорит об этом не потому, что хочет упрекнуть советскую власть или насолить ей. Никаким антисоветчиком, тем более в 1960 году, он не был, конечно. Он понимает, что перед лицом такого беспросветного зверства, как фашизм, меркнут все прежние несправедливости и злодейства: «Но вот пришли немцы, и о том, что такое было, не хочется помнить». Он хочет лишь показать, что для одних война и советское отступление — горе, а для других — праздник: потому что можно свести счёты, потому что есть шанс выслужиться перед новыми хозяевами, потому, наконец, что новая власть небывало жестока — до публичных казней большевики не доходили, — а садическая жестокость в людях тоже есть, и не в утончённых садистах-аристократах, а в самых что ни на есть простых односельчанах. Люди любопытствуют, хотят посмотреть, а то и поучаствовать. В полицаи идут те, кого гипнотизирует это дозволенное зверство, те, кому импонирует карательная психология, — и, конечно, сведение личных счётов тоже не в последнюю очередь привлекает сердца. Об этой психологии Адамович начал рассказывать задолго до «Карателей».
Но одна мысль Адамовича кажется мне принципиально важной — и практически забытой сегодня: ведь сегодня архаические ценности опять в ходу, и задним числом Победу пытаются объяснить только ими. Нет, это была именно война прошлого с будущим, и защищали не только свою землю или историю предков, но именно ценности нового века:
«Война могла быть иной по планам, по тактическим и даже стратегическим успехам, по жертвам с той или другой стороны, по занятым или незанятым городам, но она не могла быть иной по исходу. Встретились не просто две армии и даже не два народа, в жесточайшей схватке столкнулись два мира. И победить мог лишь тот мир, который открывал людям путь в будущее, достойное Человека».
Это у Адамовича не вставная советская фиоритура, цензуры ради. Это трезвое понимание того факта, что архаика проигрывает всегда. И в фашизме, вслед за Умберто Эко, он видит именно триумф этой архаики — а за СССР видит извращённую, оболганную, но всё же идею будущего.
У Адамовича есть и та ещё особенность — уже в «Войне под крышами» и в её продолжении, «Сыновья уходят в бой», — что он не отводит глаз от самого ужасного. Когда пленного забивают палками — он глазами ребёнка смотрит на всё это и не упускает ничего. Когда контуженную старуху, которая с самой контузии повредилась умом и ходит в мужском платье, принимают за агента, раздевают на площади и избивают — он и про это рассказывает подробно. Адамович вообще воспринимал свою прозу отчасти как акт возмездия, а возмездие не может быть избирательным: отмщено будет всё. И потому уже в первой военной книге он резко выделялся из числа советских военных писателей — именно потому, что воспоминания об ужасах войны словно не только растравляли его душу, но и как-то излечивали этот травматический психоз: он снова сводил счёты, снова мстил. И писательство своё воспринимал как продолжение войны, потому что после Победы фашизм никуда не делся.
3
Уже в «Хатынской повести» (1971) Адамович устами своего героя — Флориана Гайшуна, Флёры, — высказывает сомнение в том, что история развивается по Марксу. Зло не убывает. Никакая революция и никакой социальный строй не переменят человеческой природы, проблема только в том, какой строй позволяет человеку лучше сопротивляться, делает его менее уязвимым. На этот счёт у Адамовича не было определённого мнения: шестидесятник, он ещё верил в советский гуманизм. Чем дальше — тем больше он в нём разуверялся.
И тут происходит главная революция в его прозе. Он понимает, что есть вещи, которые не должны интерпретироваться идеологией — потому что любая идеология будет их объяснять, оправдывать или замалчивать. Есть то, что не подлежит трактовке. Есть то, что было бы кощунственно обрабатывать традиционными литературными приёмами — «домысел — вымысел — сгущение — типизация». Есть факты, сама обработка или объяснение которых — кощунство: они должны говорить сами за себя. У нас потому и нет ещё великой прозы о войне — столь же великой, как война, — что наша военная проза идеологизирована, догматична. А надо просто сказать правду — в том числе ту правду, которая не принята, невыносима, оглушительна. Литература слишком многого не выдерживает, слишком от многого отворачивается. Нужна документалистика.
Адамович словно создал живую иллюстрацию к тезису Бродского: настоящая трагедия не там, где гибнет герой, а там, где гибнет хор. Этот страшный хор аутентичных, ничем не приукрашенных свидетельств составил книги «Я из огненной деревни» и «Блокадная книга». Одному такой труд было не поднять, и первую Адамович создал в соавторстве с Брылем и Колесником, а вторую — с Граниным. Думаю, ничего страшней, чем сожжённые деревни Белоруссии, не было не только в Великой Отечественной, но и в человеческой истории: жечь в запертых сараях всё население деревень, с женщинами, детьми и стариками, — до этого никто и нигде не доходил, разве что в самые варварские времена. Блокада Ленинграда — другой ад, не огненный, а ледяной, но тоже не имеющий аналогов в истории войн. Такие вещи описывать художественным слогом нельзя. И Адамович дал право голоса всем свидетелям, доселе молчавшим; он обнародовал блокадный дневник Юры Рябинкина, ленинградского школьника, сходящего с ума от голода. Он записал свидетельства чудом выживших партизан или жителей сожжённых деревень, которые умудрились убежать. Он опубликовал показания немцев и карателей. Наверное, человек — сколь угодно опытный и сильный — не мог всё это записать и не подвинуться рассудком.
И наверное, у Адамовича в характере появилось нечто, похожее на мстительное чувство: заставить мирных, благополучных, сытых людей — ни в чём не повинных, разумеется, — пережить то, о чём они понятия не имели. Буквально, физически заставить — на, смотри, не смей отворачиваться! Это было жестоко — и вряд ли кого-то от чего-то могло предохранить. В предостерегающую силу литературы, вообще во власть искусства он, кажется, не верил. Да и как может верить в великие абстракции человек, такое повидавший, — да ещё и человек, впечатлительный по натуре, да ещё и в самом впечатлительном возрасте? Но он считал, что шок от правды должны пережить все. И да, наверное, в этом была мстительность. Одна моя однокурсница брала у Адамовича интервью и вернулась очень озлобленная: он садюга, сказала она, он просто болен. Но я, надо сказать, испытал некое мстительное чувство, когда на просмотр «Иди и смотри» заявилась с пивом компания советских подростков, поначалу орала и гоготала — но вышла совершенно пришибленная, девушки вообще побелели. Они даже не плакали, так их напугала эта действительно невыносимая картина, которую я с тех пор ни разу не пересматривал. Сам я не помню, как доехал до дома, — то есть помню, что проехал свою остановку. И мне непонятно было, как теперь с этим знанием — которое Климов вдобавок визуализировал, — жить среди людей. Меня мало утешали разговоры людей более взрослых — что это, мол, не имеет отношения к искусству. Да, не имеет. Но это правда, Адамович и не предлагал судить её по законам искусства. Его меньше всего волновала художественная составляющая — хотя Климов делал кино, и кино очень мощное; однако все его режиссёрские решения утонули в этом материале, перестали восприниматься на его фоне. Это лишний раз доказывало: искусством XX века стала документалистика, всё остальное пасует.
4
«Каратели» во многом подводили итог военно-исторической прозе Адамовича. Там привлечены к делу не только материалы допросов полицаев, но и показания «красных кхмеров», зачастую совсем подростков.
Сотни великих умов бились над убедительным разоблачением фашистской идеологии, Адамович внёс в это дело существенный вклад; наше время показало лишь, что фашизму необязательна идеология. И вот как быть с теми, у кого её вообще не было? Собственно каратели — Тупига, Доброскок, Сиротка, — они ведь просто люди, без идей вообще. Адамович приводит прошения о помиловании бывших карателей после процесса 1974 года:
«Я не виноват, виновата война. Не было бы войны — не попал бы я в плен и не сидел бы теперь на скамье подсудимых».
Но ведь тут не поспоришь, тысячи людей, если б не война, никого бы не предали, и никто бы не знал, что они каратели. Больше того: многие из этих карателей после войны вели нормальную мирную жизнь и были даже ударниками, на что теперь упирают. Что же в них было такого, что одни становились героями, а другие карателями? Откуда вообще брались вот эти приспешники нового режима? И ведь их было много, и как бы ни пытались закрыть на это глаза — находились люди, которые с искренним наслаждением шли прислуживать новым хозяевам и выдавать старых; и сейчас бы они нашлись, и это были бы вовсе не те, кого опять записывают во «враги народа». У «врагов народа» есть своя правда, они её так легко не продают и в любимчики ни к каким властям не лезут. Но Адамовича ведь интересуют именно «каратели», он о них и книгу написал, — почему, откуда? Нельзя ли их как-то распознать заранее? Переубедить, видимо, никак; но, может, хотя бы выделить? Ничего мы не знаем о том, как поведут себя в экстремальных ситуациях другие, да и о самих себе ничего не знаем.
Как быть с теми простыми советскими людьми, которые пошли убивать простых советских людей?
Были те, кто спасался из плена, надеялся выжить и потом перебежать (как Рыбак в «Сотникове»). Были те, кто мстил комиссарам за голод и коллективизацию. Но ведь были и те, которым просто всё равно было, кому служить, — лишь бы жить? Они-то и составляли большинство карателей, просто потому что общая, объединяющая их всех черта — нравственная тупость. И она, к сожалению, встречается часто — если не большинство людей таковы, то по крайней мере значительная часть.
Вот только в этом и была самая суть работы Адамовича, его главная цель: обжечь на всю жизнь. Не важно, литературными, сверхлитературными или вовсе запредельными средствами: пусть самыми запретными приёмами — но так потрясти читателя, чтобы сам он не смог ничего подобного сделать уже никогда. Поэтому часть повествования ведётся от лица беременной на шестом месяце, которая лежит, недостреленная, среди трупов и бредит: и не только от её имени, но даже от имени нерождённого сына. Нормальный читатель — и нормальный писатель — скажет: так нельзя. Ну невозможно это читать, тем более перечитывать. Но Адамович видит у литературы одну цель: так потрясти читателя, чтобы он раз и навсегда научился представлять себя на чужом месте. Могут возразить: кто наделён даром эмпатии — тот и так умеет, а кто туп, как Тупига, — того и Адамович не пробьёт. Но Адамович был писатель не простой и умудрялся — я видел это неоднократно — пробивать даже тех, кто устойчив к любым воздействиям. Он в самом деле лупит ниже пояса. Но результата чаще всего добивается — надо только заставить читать. А кто не хочет читать — тем можно показать «Иди и смотри», или экранизацию «Войны под крышами», или любой документальный фильм, сделанный с должной мерой откровенности. Адамович искренне полагал — и, возможно, был прав, — что задача у литературы одна: вырастить такого читателя, из которого нельзя было сделать карателя.
Идеальный случай, конечно, воспитать читателя, у которого есть навык внутреннего сопротивления. Он ни при какой власти не будет первым, и всегда у него будут вещи, которые важнее жизни. Но если самостоятельность — удел далеко не каждого читателя и человека, то по крайней мере ужас зверства, с его деталями, запахами, чавкающими звуками, — Адамович до читателя донёс. Правда, те белорусы, которые сегодня месят своих братьев и сестёр, швыряют их в автозаки или насилуют дубинками, — они Адамовича вовсе не читали и о таком земляке вовсе не слышали; но зато те, кто читали, показывают сегодня России и всему миру пример достоинства.
5
Вот тут, наверное, надо сказать хоть слово о том, что в Адамовиче собственно белорусского — и что в нынешних белорусах от Адамовича.
Национальный характер не только источник, но и результат национальной литературы. Русский характер сегодня был бы другим, если бы не Толстой — и, увы, не Достоевский; белорусский характер сформировал Казакевича, Адамовича, Быкова, — но и сформировался благодаря им. Годы оккупации научили белорусов партизанить — жить тайной, внутренней жизнью; такой партизанский характер приобретает, конечно, свои минусы — например, иногда от этой скрытности шаг до конформизма, — но когда припрёт, этот характер перестаёт мириться со средой и бунтует так, что убивает гауляйтера Вильгельма Кубе. А серьёзный был военный, охраняли его тщательно. Но вот убили, и операцию эту, кстати, осуществила женщина — работавшая в его особняке служанкой Елена Мазанник. Так что торжествовать победу над оккупированной Белоруссией было рано, и сейчас тоже ничего не получится. Рассчитывать надо не на гауляйтеров, охрану их и высокопоставленных друзей (которых у Кубе тоже хватало). Рассчитывать надо на партизан, это самая надёжная сила, потому что партизанскую войну вести тяжело, а выиграть вообще невозможно.
Вот этих партизан воспитал Адамович. И неважно, что лично он не дождался никакой победы собственного дела: повезло его ученикам. Он воспитал Светлану Алексиевич (и название её первой, поныне самой известной книги — «У войны не женское лицо» — это цитата из посвящения «Войны под крышами»). И она за свою сверхпрозу получила Нобелевскую премию, которая, в сущности, принадлежит не только ей, а всей традиции, у истоков которой стоял Адамович. Воспитал он и белорусских демократов, которые возглавили сопротивление Лукашенко, частично выбитое, частично вытесненное за границу. И тех, кто сегодня противостоит диктатуре, выходя на мирный протест, — вырастил он. А не Лукашенко (который, подозреваю, его не читал).
«Последняя пастораль» — завещание Адамовича — очень мрачная книга, безвыходная, несмотря на то, что от человечества уцелели двое любовников, которые могут дать начало новому человечеству. Земля-то отравлена, вся она в ядовитой слизи, в ядерном пепле, в чудовищных цветах-грибах. Человечество обречено уничтожить себя, потому что сдерживающих сил ему не хватает; потому что радость ножа слишком ему присуща; потому что те, кто способен сопротивляться общему безумию, всегда в меньшинстве и всегда затравлены.
Но по крайней мере эти немногие делали всё, что могли. По крайней мере от Адамовича остались его четыре тома, читать которые невыносимо, но забыть уже нельзя. И если у белорусов этой осенью всё получится — каковы бы ни были последствия их революции, — они по крайней мере сбросили оккупацию, это не так мало, всем бы так.
А если не получится — остаётся нам финал «Последней пасторали»:
«Но Вселенная всё же успела услышать что-то такое, по чему будет тосковать, сама не сознавая».
Дмитрий БЫКОВ, "Дилентант".